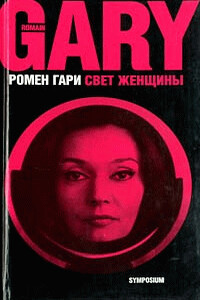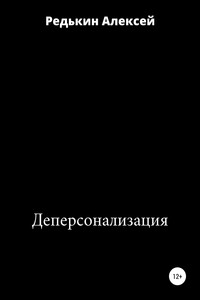Большая барахолка | страница 64
Он отхлебнул «Виши» и продолжал рассудительным тоном:
— Вокруг такой бардак и неразбериха, что иногда я не уверен, заметил ли человек, что у него угнали машину. Вот увидите, никто ничего не заметит. Где уж там замечать, когда все рушится! Страна погибает, а вы хотите, чтобы люди заботились о своих машинах? Цеплялись за соломинку, когда им на голову сыплются кирпичи? Во всяком случае, таково мое мнение. Люди не такие корыстные, как принято считать. Они думают не только о себе. Уж можете поверить! Я вообще верю в людей — это мой принцип. Так что вы скажете?
Он пристально и честно смотрел мне в глаза, и я уже не понимал, что от меня требуется: верить людям или угонять машины. Когда мы вышли, я сказал Леонсу:
— Нас поймают, старик. Сам знаешь, рано или поздно все кончается этим.
Леонс пожал плечами, сплюнул.
— Ну и что?
А правда, ну и что, подумал я и тоже сплюнул.
— Да и в жизни все не так, как в кино, — сказал Леонс. — Вон Чокнутого Пьеро[12] разве поймали? А в кино его уже давно бы посадили на электрический стул. В кино всегда под конец попадаются. Это нарочно, чтобы страху нагнать. Во всем должна быть мораль. Американцы, они такие.
Минуту мы шагали молча. Я шел, низко нахлобучив шляпу, подметая асфальт расклешенными штанинами, тупо жевал сигарету и старался заглушить скребущую сердце тревогу, отогнать неотступный вопрос: почему? Почему все вот так? Почему умер отец? Старался не погружаться в переживания, оставаться на поверхности, на уровне слов, жестов, привычек. Леонс прав. Я и сам читал в каком-то киношном журнале: в конце фильма гангстера всегда ловят только потому, что этого требует мораль. Все знают, что на самом деле все не так. Запросто можно и уцелеть.
— И вообще, мужчины мы или нет? — напоследок сказал Леонс.
Я работал с напарником, которого представил нам Мамиль; все звали его Крысенком[13], потому что он был алжирец; юркий чернявый малый, мой ровесник, он говорил с певучим акцентом и привирал на каждом слове. Такая у него была органическая потребность, он врал совершенно естественно, непроизвольно, так что это и ложью-то нельзя было называть.
— Эй, парни, что скажу: Чокнутый Пьеро, сам видел, прямо сейчас прикончил одного хмыря! — говорил он, например.
— Ври больше! — отмахивался Мамиль.
— Чтоб мне сдохнуть, если вру! Сидим мы, болтаем на Бетюнской набережной, напротив газового завода, мы с ним приятели, с Пьеро-то… и вдруг к реке спускается по лесенке легавый. На плечах накидка, хоть уже весна. Пьеро вскочил и руку тут же в карман. Легавый увидел нас, подмигнул, а потом встал у стенки, расстегнул ширинку и пустил струю. Ну, я успокоился, а Пьеро, тот взъярился, обидно ему показалось, выхватил свой пугач да как жахнет, я и охнуть не успел! Прямо вот сюда легавому пулю всадил. — Крысенок прижал руку к груди. — Но тот не сразу упал, еще миг-другой отливал. Пьеро говорит: «Столкни его в воду». Мне что, я столкнул. Сначала он поплыл: накидка пузырем, в середине — голова, прям кувшинка. Потом потонул. «Больше, — Пьеро говорит, — не будет тут ссать».