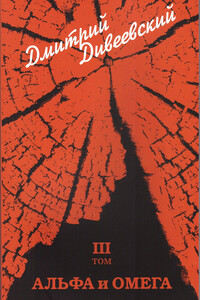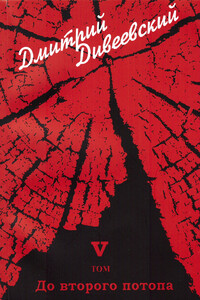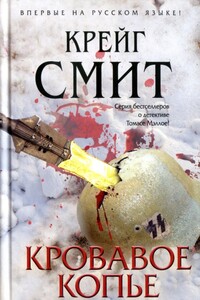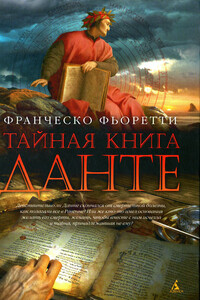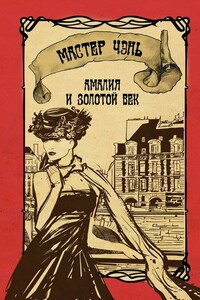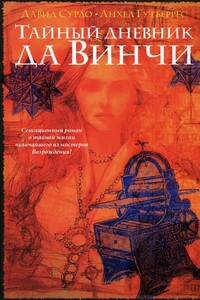Окоянов | страница 66
Но самое главное в романе то, что героиня кончает жизнь самоубийством – грехом, в котором выражен протест против Жизнедателя. Страшную роль утверждения такого греха взял на себя писатель!
Потом отец Лаврентий внимательно прочитал «Войну и мир» и долго размышлял над причинами успеха этого романа.
Все в нем – правда. Все в нем достоверно. И люди в нем живые, и страсти их настоящие, и история Отечества отражена с зеркальной правдивостью. Но все-таки, о чем это произведение? Что в нем главное? Раздумывая над этими вопросами, священник пришел к заключению, что ответить на них можно только поняв, кто же главный герой романа.
Конечно же, главным героем было дворянское общество, точнее говоря, его верхушка. Все остальное служит ландшафтом, в котором развивается жизнь этого персонажа. И что же это за жизнь? На самом ли деле дворянское общество так обуреваемо мирскими страстями? Правда ли, что самым высоким его проявлением стал патриотический антибонапартовский подъем? Разве среди дворян уже не было людей высокого человеческого склада, а значит, отмеченных Господом? Разве не было людей, стремившихся к переустройству крепостничества и протестовавших против него? Разве не покончил самоубийством чистейший Радищев, вернувшийся в 1801 году из ссылки и понявший нелепость начинаний Александра Первого? Разве не было желчного масона Новикова, с его журналами «Трутень» и «Живописец», напрямую стрелявшего сатирой в этот строй и отсидевшего за это в Шлиссельбургской крепости? Разве не уходили настоящие мученики духа в затвор и схиму, становясь совестью своего поколения?
Священник понял, что Толстой написал о себе, раздробив себя на сотни персонажей. Но он честно написал о себе, как о дворянине, потерявшем Бога, запутавшемся в понимании мира и бредущем через необузданную чувственную жизнь. Он не смог написать о терзаниях лучших людей России, потому что не терзался сам. Однако, выдав себя за все дворянское общество, этот писатель солгал и повел за этой ложью неискушенных читателей в мир, в котором Бог отодвинут в сторону, а душами владеют земные страсти. Именно так и никак иначе. Потому что в ином случае этот талант должен был разглядеть главную трагедию русского дворянства того периода – трагедию Императора Александра Первого.
А этот человек пережил драму, по своей глубине не уступающую пьесам Шекспира, только в отличие от них, случившуюся реально. Как мог Лев Толстой не заметить того, о чем говорили даже молодые офицеры в гатчинских казармах, спустя почти полвека после случившегося; того, что действительно десятилетиями бередило душу многих российских граждан?