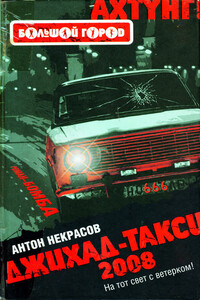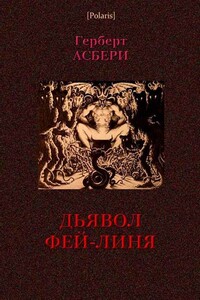Записки из Города Призраков | страница 60
Все замолкают при подъезде к тюрьме, словно боятся, что это ужасное место засосет в себя тех, кто посмеет подать голос. Я крепко закрываю глаза и вижу маму, какой хочу навсегда ее запомнить: длинные волнистые волосы, струящиеся по худенькой спине, длинные ноги (она бежит со мной по прибою), длинные пальцы (она ищет для меня ракушки или окаменевшие морские звезды).
Я не хочу, чтобы эту маму заменила та, что находится сейчас в тюрьме: мама, обвиненная в убийстве, с нездорового цвета кожей, в грязных, потных футболке и трениках, без океана волос.
– Ох, милая. Ливи. Это ты. Ты здесь. – Мамин голос хриплый, надтреснутый. Спортивный костюм великоват для нее, волосы обстрижены слишком коротко. Неровно. Обстрижены так, будто кто-то хотел, чтобы она выглядела насколько возможно отталкивающей и безумной. И она выглядит уставшей, старой и безумной.
Мама поворачивается к охраннице, чтобы спросить, можно ли обнять меня, и, получив разрешение, тянется ко мне и прижимает к груди. Не знаю почему, но я застываю в ее руках. «Привет, мама», – бормочу я. Это все, что я успеваю сказать, прежде чем сдаюсь, прижимаюсь к маме, обнимаю с такой силой, что боюсь сломать ей ребра. Моя мама.
Охранница пристально наблюдает за каждым нашим движением. Она обучена подозревать всех. Мама теперь должна спрашивать разрешение на все: сходить в туалет, принять душ, послушать музыку. Она писала мне об этом в каждом из трех писем. Еще она написала, что руки у нее иногда сильно трясутся, и писать ей тяжело, и здесь нет рояля, так что она не может даже мечтать о том, чтобы на нем поиграть.
Теперь от нее и пахнет иначе, когда мы стоим, крепко прижимаясь друг к другу: не сладкой плюмерией, и имбирем, и океаном, но чем-то затхлым, едким, много раз продезинфицированным, как больничный коридор.
Охранница кивает ей, стоя у двери.
– Почему бы вам обеим не присесть, мисс Тайт?
– Пойдем, милая, – говорит мама. Слезы текут из глаз, когда она подается назад и берет меня за руку. Ее кожа по-прежнему мягкая. – Нам лучше сесть. Тиша не любит, когда ее не слушаются, – и она смеется.
– Да, мэм, не люблю, – буднично отвечает Тиша. Хотя я вижу, что мама ей нравится. Я вообще не могу представить себе, чтобы мама кому-то не нравилась. Даже в тюрьме, где заключенные больше напоминают диких зверей или гниющие отбросы, чем живых, прекрасных человеческих существ.
Мама ведет меня к широкому, пустому столу, и мы садимся напротив друг друга на холодные пластмассовые складные стулья в холодной, белой, без единого окна комнате, в которой нет ничего – ни цвета, ни музыки, ни света. Во многих смыслах мы с мамой пойманы в одном и том же месте.