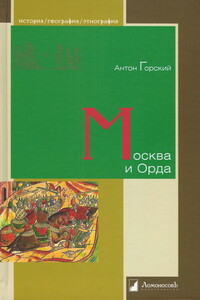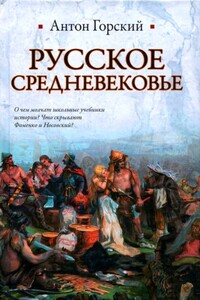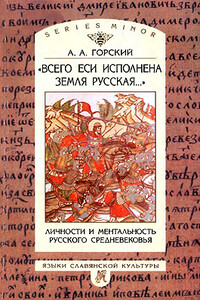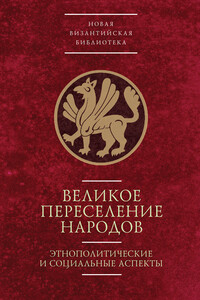Русское Средневековье. Мифы и историческая действительность | страница 18
Таким образом, значительная роль норманнов в событийном ряду периода образования Древнерусского государства сомнений не вызывает: скандинавское происхождение имела древнерусская княжеская династия, а также значительная часть окружавшей первых русских князей знати (дружинное окружение первых киевских князей, видимо, в значительной мере состояло из потомков дружинников Рюрика, перешедших с Олегом в Киев). Но есть ли основания говорить о норманнском влиянии на темпы и характер формирования русской государственности? Здесь в первую очередь следует сопоставить государствообразование на Руси и у западных славян и посмотреть, не было ли в формировании Древнерусского государства специфических черт, которые могут быть связаны с воздействием варягов.[16]
Что касается темпов складывания государства, то ранее Руси, в первой половине IX в., возникло первое западнославянское государство — Великая Моравия, погибшее в результате нашествия венгров в начале X столетия. Западнославянские государства, сохранившие независимость, — Чехия и Польша — складывались одновременно с Русью, в течение IX–X веков. Говорить об «ускорении» норманнами процесса государствообразования на Руси, следовательно, исходя из сравнения со славянскими соседями, оснований нет. Сходны были и характерные черты в формировании Древнерусского и западнославянских государств. И на Руси, и в Моравии, и в Чехии, и в Польше ядром государственной территории становилась одна из славиний (на Руси — поляне, в Моравии — мораване, в Чехии — чехи, в Польше — гнезненские поляне), а соседние постепенно вовлекались в зависимость от нее. Во всех названных странах основной государствообразующей силой была княжеская дружина. Везде (кроме Моравии) наблюдается смена старых укрепленных поселений (градов) новыми, служившими опорой государственной власти. Таким образом, нет следов воздействия норманнов и на характер государствообразования. Причина здесь в том, что скандинавы находились на том же уровне политического и социального развития, что и славяне (у них также государства формировались в IX–X столетиях), и сравнительно легко включались в процессы, шедшие на восточнославянских землях