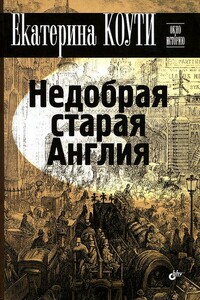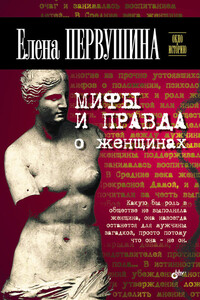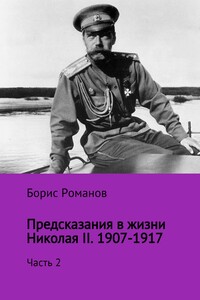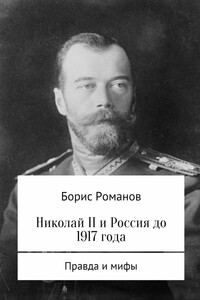Император, который знал свою судьбу. И Россия, которая не знала… | страница 117
По завещанию отца следовало «беречь» (т. е. опекать) Ивана до 15 лет, поры совершеннолетия. Едва отпраздновав этот день рождения, Иван велел отрезать язык Афанасию Бутурлину за какие-то неугодные слова. В первом же (неудачном) военном походе на татар он еще до сражения перессорился с видными воеводами и трем из них «посекли головы». Однако, как бы ни удивлял молодой князь бояр, надо было венчать его на царство, пришла пора исполнять волю его отца.
16 января 1547 года Ивана Васильевича короновали. В Успенском соборе в Кремле митрополит возложил на него шапку Мономаха — символ царской власти московских государей.
После коронации и основания, таким образом, нового православного царства митрополит Макарий провел церковную реформу: собранный им духовный собор канонизировал несколько десятков новых святых. Русская церковь в тот год обрела их больше, чем за предыдущие пять веков своего существования — закатившееся в Константинополе «солнце благочестия» с новой силой засияло в Москве, в Третьем Риме.
«Венчание на царство», впервые после ордынского ига независимое от татар, — важнейшее событие не только для Руси, но и для Европы. Что представляла собой Россия в то время? Это было одно из самых крупных и населенных европейских государств: около десяти миллионов людей населяло Восточно-Европейскую равнину. В Москве жило около ста тысяч и это был крупнейший город Европы, в Новгороде — до тридцати тысяч человек; Киев после татар был не слишком большой деревней, но постепенно возрождался. В городах жило около двух процентов населения — довольно много для средневековой Европы. Тяжкие поборы с городских жителей служили одним из главных источников пополнения царской казны — и причиной многих волнений и бунтов.
Почти при всяком бунте горожане обвиняли в злых умыслах каких-либо «волхвов», «колдунов» из знати — такое место в народном сознании теперь занимали прежние великие дохристианские волхвы, точнее языческие образы, а место самих волхвов, и в жизни и в сознании людей ныне занимали христианские подвижники и юродивые.
Е. П. Карнович в своем исследовании приводит такое свидетельство об отношении в то время к прежней старине:
Сверх того, в Восточной Руси повелся такой еще обычай. Из боязни чар и волхований, при которых нужно было знать крестное имя того, на кого они направлялись, русские люди старались скрывать это последнее, так что нередко крестные имена заменялись не только другими христианскими, но и татарскими, а настоящее крестное имя делалось известно только по смерти носившего его [19].