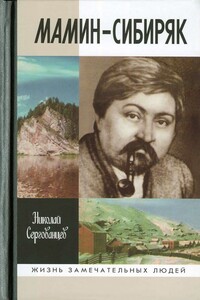Тот век серебряный, те женщины стальные… | страница 80
Т. Ф. Скрябина получила паек — пока на бумаге. Продолжает рубить и топить, руки ужасные, глаза прекрасные, почти все вечера забрасываемся куда-нибудь, все равно куда, я — устав от дня, она — жизни, нам вместе хорошо, большое шкурно-душевное сочувствие, любовь к метели, к ослепительно-горячему питью — курение — уплывание в никуда.
Вот это совместное вечернее «уплывание» роковых москвичек и напугало провинциальную барышню Олечку, так что и портрет Марины в Олином дневнике вполне испуганный:
У Марины Цветаевой надо было взять архив Бориса, брата… в ответ — благодаря и любуясь на книгу в рукописи, писанной рукой Бориса под диктовку Марины, прочла мне Майя Кудашева. Стихи «Царь-Девицы» местами хороши, но общее впечатление от книги отвратное. А сама она — наполовину ведьма и слишком женщина, до какой-то неловкости, хочется отдышаться. Взбалмошна, с какими-то сдвигами. Что бы там ни было — талантлива и умна, говорят о ней очень плохо… особенно в связи с покойной несчастной Скрябиной. Жалеют Скрябину, о Марине Цветаевой и об Эсфири (тут же и о Майе) говорят с отвращением, неохотно.
Запомнила выражение о Татьяне Федоровне, что она «сгорела в этом костре — этих ведьм». Майя не была в стороне от этой истории, а сама она о Марине говорит очень резко. Ну их всех совсем.
В той же дневниковой записи Ольга сообщает, что Цветаева уже приготовилась к отъезду заграницу. Совершавший обычные свои челночные поездки на Запад Илья Эренбург выяснил, что Сергей Эфрон объявился в Берлине. Эренбург помог Марине Цветаевой получить документы для выезда, и Цветаева уехала к мужу. Похоже, что он не ждал от этого ничего хорошего. Все его опасения оправдались. В тот день, когда Марина с дочкой приехали в Берлин, Сергея Эфрона в Германии не было: он уехал на два-три дня для устройства своих дел в Праге. За эти дни у Марины начался бурный роман с владельцем издательства «Геликон» Вишняком, так что сцену встречи родителей на берлинском вокзале после долгих лет разлуки дочке Ариадне пришлось полвека спустя в своих воспоминаниях приправлять заемным пафосом. Что до бедолаги Эфрона, он по приезде в Берлин написал горестное письмо их общему другу и покровителю Максу Волошину, жившему в своем становившемся все менее безопасным коктебельском доме:
М. — человек страстей: гораздо в большей мере, чем раньше — до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно…