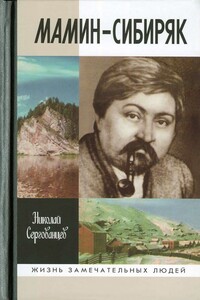Тот век серебряный, те женщины стальные… | страница 79
В общем, образцы эпистолярной цветаевской прозы, которая не претендует на точность характеристик и описаний, а лишь на одну восторженность: «Мне от него тепло, Ланн, мне с ним благородно, люблю его по хорошему… это настоящая Россия — Русь — крестьянский сын».
То, что Борис не был никаким крестьянским сыном, — докучливая подробность.
Борис подружился и с гениальной девятилетней дочкой Цветаевой, она тоже писала ему высокоидейные письма: «Борис! Коммунизм и другой, нашизм, это все ничто! — Есть только Русь и не Русь!»
Борис по мере сил помогал и Цветаевой, и Добровым менять вещи на еду, доставать нужные бумажки у всевластных комиссаров, помогал переехать сестре Марины Асе с ребенком из Крыма и еще, и еще… Но довольно скоро он надоел Марине. К весне она уже была влюблена в образованнейшего князя (и, конечно, гомосексуалиста) Сергея Михайловича Волконского, книгу которого прочла. Она писала ему в конце марта:
Ваша книга… Знаете ли Вы, что и моя земная жизнь Вами перевернута? Все, с кем раньше дружила, отпали. Вами кончено несколько дружб. (За полнейшей заполненностью и ненадобностью.) Человек, с которым встречалась ежедневно с 1-го января этого года — вот уже больше недели его не вижу. — Чужой. — Не нужно. — Отрывает (от Вас). У меня есть друг: Ваша мысль…
…Только что отзвонили колокола. Сижу и внимательно слушаю свою боль. Суббота — и потому что в прошлый раз тоже была суббота, я невинно решила, что Вас жду.
Но слушаю не только боль, еще молодого красноармейца (коммуниста), с которым дружила до Вашей книги, в котором видела и Советскую Россию и Святую Русь, а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу, Слушаю дурацкий хамский смех и возгласы вроде: «Эх, черт! Что-то башка не варит!» — и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу.
Совершенно замечательные дневники писала жившая в то время в доме Доброва сестричка Бориса Бессарабова Оля. Попав в окружение московской богемы, эта чувствительная и религиозная воронежская девушка испытала некоторый шок. Она увидела ярких, талантливых, раскованных женщин серебряного века — Майю Кювилье-Кудашеву, Эсфирь (Киру) Пинес, Татьяну Федоровну Скрябину, Марину Цветаеву, — и раскованность этих «беззаконниц», их групповые лесбианские вечера напугали юную провинциалку. У Марины, уже расставшейся к тому времени с Сонечкой, в январском письме к Ланну есть романтическое сообщение о ее дружбе с Т. Ф. Скрябиной: