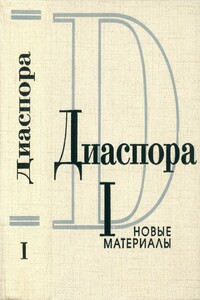Мозаика еврейских судеб. XX век | страница 18
Москва, 16 февраля 1948 г.
II
Натан Альтман
Серж Фотинский
Лидия Эйдус
Натан Альтман в Париже и в Питере
Быть современником больших людей не одна только радость — это и большая ответственность. Осознается это не сразу и обычно, когда уже поздно. Поэтому далеких предков легче судить.
Какой школьник не посмеется сегодня над современниками Пушкина, предпочитавшими ему Бенедиктова? Но уже современники Мандельштама, горланившие Безыменского, считают, что заслужили социальную защиту, а наши знакомые, обожавшие Асадова, когда уже были написаны стихи Бродского, еще не увенчанные нобелевскими лаврами, откровенно недоумевают: чем они виноваты, если читали то, что лежало на прилавках? Каково людям, всю жизнь считавшим, что живут в эпоху А. Герасимова и Соколова-Скаля, а теперь зачисленным в современники Филонова и Фалька? Чьими современниками окажутся толпящиеся у шедевров Глазунова и Шилова?
Не стоит спешить с выводами о том, что именно из сделанного сегодня уцелеет в искусстве через сто лет. Например, в 1970 году самая главная газета Питера «Ленинградская правда» не поместила некролога умершему художнику Натану Альтману — сочли, что маленькой черной рамочки с сообщением о смерти ему хватит. А сегодня, когда полотна недавних советских «классиков», которых провожали в последний путь пышными некрологами, из залов Русского музея заслуженно перебрались в запасники, альтмановская Ахматова является гордостью основной экспозиции музея.
Натан Альтман родился в 1889 году в Виннице. Его мать служила кастеляншей в больнице, своего отца он не помнил. Ему был 21 год, когда он приехал в Париж; за его плечами было одесское училище и несколько картин, выставленных на обозрение в той же Одессе, — картин мастеровитых, но провинциальных.
В Париже Альтман остановился у товарища по училищу, но — так случалось со всеми неимущими талантами, приезжавшими сюда учиться живописи, — вскоре он перебрался в многолюдное и дешевое общежитие, где жила, училась и работала добрая сотня начинающих художников.
Это были теперь легендарные и прославленнее мастерские «Ля рюш» («Улей»). Когда я разыскивал в Париже места, связанные с жизнью и работой знаменитых художников парижской школы (выходцев из России), «Ля рюш» я даже не стал искать. Почему-то казалось, что эта ветхая постройка давно снесена. Оказалось, нет! «Ля рюш», очищенный от окружавших его развалюх и мусора, сегодня сверкает не только старой славой, но и новой чистотой — здесь, как и прежде, живут и работают молодые художники, и только слово «нищета» к ним трудно отнести.