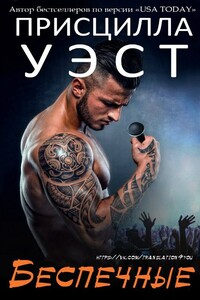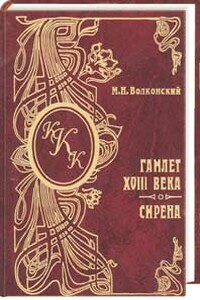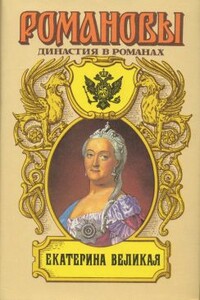Навсегда | страница 33
— Коли уж воспитывать… Коли уж начинать рассказывать ему о войне, то тогда уже все. Все! — отрезал решительно Ваня. — Ничто вообще не терпит неправды. И полуправды. Ничто! А уж война… Тут ни в чем от правды нельзя отступать, ни на гран!
— А я что, разве против? Я тоже за! Мы же на уроках рассказываем… И у них, в первом классе, рассказывают…
— Вот так вы и рассказываете… Что, как рассказываете, то и получается. Вернее, детишки ваши получают.
— Ванечка, ну зачем ты? Ты же знаешь, мы и фронтовиков приглашаем…
— Ну, а они-то, бедные, что, как в школе у вас говорят? То, что им снится, что спать не дает, за что грызет совесть?
— А может быть, их не грызет?
— Тогда и вовсе нечего им перед детишками выступать.
— Да просто если им не за что? Не совершили против совести ничего. Не все же, как ты, виноваты? — И запнулась.
И Ваня ее оборвал:
— Не может этого быть! — моментально, уверенно отреагировал он. — Не может! Если действительно воевали, особенно если командирами были, если бездумно, покорно выполняли любые чужие приказы, других посылали на смерть. Такое мимо совести не проходит. Не может пройти. Не должно! — невольно сжал и чуть даже вскинул перед собой кулак. — Потом обязательно мучает. Не может не мучить. Конечно, если она у них есть, совесть-то. Мне Коля Булин рассказывал, как у них на Херсонесе было. А у нас как было? Тоже… Своими глазами, сам повидал… И как свои же стреляли своих… И сами стрелялись. — Замолк на миг, видно, что-то представляя себе. — Вавилкин, начштаба наш… Это же надо… — Ваня губы поджал, покачал головой, вспоминая, видно, что-то. — Во был мужик! Все, все… Что в котелке твоем, что на тебе, в каком окопе лежишь… Командир не проверит, бывало, а он… Не его это дело совсем, не штабного, а проверял. Сам во все дыры нос свой совал. Как постоянно за нас хлопотал, так за нас и погиб. — Снова замялся, вздохнул. — Приказ сверху: снарядов фугасных, осколочных нет, да и болванок — и этих в обрез, так нет — все равно, без снарядов, одними пустыми стволами, колесами станцию отбивать. А он, Вавилкин, начштаба наш, против был. Требовал артподготовки и чтобы пехота была да и танки. А сверху свое: приказ получили? Так и гоните! Чтоб нынче узел был наш! Понял? А не выполните, станции не возьмете, — сам тебя, своею рукой! И чтобы не гнать нас на верную смерть, не брать на себя этот грех, а возможно, и для того, чтобы заставить пересмотреть этот трусливый приказ, прямо в штабе, в землянке, у телефона сам себе пулю в лоб и пустил. — Ваня понуро склонился к столу, помолчал, покачал головой. — Вот так… А добился своего, отменили приказ. Оттого я, может, здесь сейчас живой и сижу. По совести начштаба наш поступил. Бригаду целую спас. А я двоих не смог уберечь. Только двоих. Загубил. — Губы у Вани задергались, склонилась к груди голова, судорожно заходила рука по столу. — Закон такой есть, — выдохнул он. — Не бумажный. Он внутри нас. У всех нормальных людей. Все более или менее можно простить — ошибки, проступки, даже, может быть, и какие-то преступления. Все! Но только если при этом не были загублены жизни безвинных людей. Хотя бы одного человека. А загубил — нет, это уже не прощается. Никогда. Это уже на всю жизнь. Навсегда. — Ваня как-то надрывно сапнул, как будто даже затрясся легонечко.