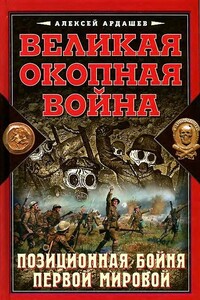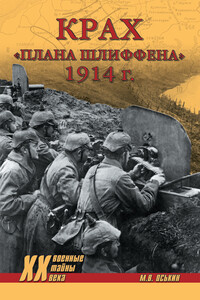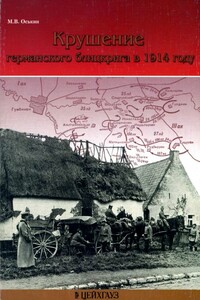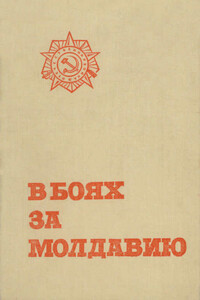Крах конного блицкрига | страница 11
С другой стороны, не менее справедливым является и тот факт, что Офицерская кавалерийская школа учила офицера в первую голову как кавалериста, а не как офицера. То есть — выдающийся конник, не умевший командовать конным подразделением в современной войне. Русско-японская война 1904 — 1905 гг. отчетливо выявила данную тенденцию. Ряд кавалерийских начальников в преддверии мировой войны пытались бороться со сложившейся практикой обучения, однако никто не преуспел в этом. В качестве примера можно привести выдержку из брошюры лучшего (по мнению участников войны) русского кавалерийского военачальника 1914 — 1919 гг. — графа Ф.А. Келлера. В войне генерал Келлер командовал 10-й кавалерийской дивизией, а затем 3-м кавалерийским корпусом. В 1910 году он писал: «Меня причисляют к заклятым врагам Офицерской кавалерийской школы, но это неправда, я враг не школы, а постановки дела в Офицерской школе, и враг потому, что вместо той громадной пользы, которую школа должна была бы принести, она приносит отечественной коннице вред… С легкой руки школы последних времен, когда руководителями и начальниками явились люди, почти не служившие в строю и специализировавшиеся только на прыжках и в езде, не знающие и не желающие считаться с нуждами и требованиями строевых частей, явилось шатание во всех полках кавалерии… К тому же школа забыла, что она воспитывает не берейторов, а строевых офицеров и средство (например, хорошую езду, преодолевание препятствий и т.д.) превратила в цель»[15].
Также граф Келлер считал, что Офицерская кавалерийская школа должна проводить однообразие в требованиях Устава. Незадолго до войны, в 1912 году, армия получила хороший кавалерийский устав (по сравнению с предшествующим Уставом), в котором пеший и конный бой признавались равноценными. Строевой кавалерийский устав 1912 года определял главную задачу конницы в «содействии другим родам войск в достижении общей цели». В данном Уставе впервые было сказано о подвижности в бою крупных сил — маневр группами на поле боя как средство подготовки последнего удара конной массой — «шока». Как считал участник войны, «Устав 1912 года — первая брешь в толще вековых «регулярных» предрассудков, и в этом его огромная историческая заслуга. Другая состоит в том, что им принципиально уничтожается (в тактическом отношении) понятие о регулярной и иррегулярной коннице»