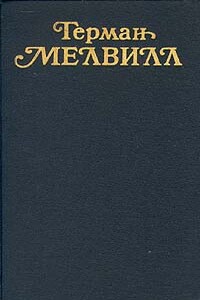Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 59
Вот уже годы прошли с тех пор, многие годы!.. И вся та же чужбина кругом, чужие люди, которые никогда ничего не поймут и не станут близкими, всё та же скорбь и горечь в душе, и надежда, тающая постепенно. Всё дальше уходит Россия, которую знал и любил, но посмотришь иногда зимою из окна на сверкающий снег, на солнце, роящееся в нем, на синиц, бестолково прыгающих, и вдруг блеснет, воспрянет в душе какой-то день: даль без предела, скрип полозьев, колокольный звон, избы под снегом, — весь тот спокойный, ясный быт. Никогда уже это более не вернется, но уже одна память о нем очищает душу. Блажен, кто может вспомнить с радостной болью о своем детстве, блажен, кто знал тот мир!.. Приткнулась о камень нога моя, и зло пришло ко мне — увы! — аспид и василиск оказались сильнее меня, но, когда вспоминаю о той молитве, всё таится еще надежда на спасение и на встречу с теми, что ушли от меня, кого нет теперь поблизости, но кого любил больше всего, — надежда, ибо тоскует душа и знает, что есть мир, где они живут, и что только от силы нашей любви зависит будущее свидание. Свидание есть лишь воплощенная любовь.
Возвращение корнета
«Но страшно мне: изменишь облик Ты».
Блок.
I
Каждый раз при встрече нового года кто-нибудь непременно говорил: следующий раз будем праздновать на родине, в России, и велось так уже двадцать лет. Первые годы, после исхода из Крыма, в эти слова искренне верили; казалось не только вероятным, но даже самоочевидным, что следующий Новый год можно будет встречать уже дома; но годы проходили, всё дальше отодвигалось, бледнело старое, а вместе с тем и надежда на Россию, и последнее время прежний тост произносился больше по привычке, хотя всё же что-то тревожно отзывалось при этом в сердце. Подберезкин вспомнил теперь все эти эмигрантские годы, проведенные в смутной надежде на Россию в одном и том же городе, среди одних и тех же лиц, — целые двадцать лет! — вспомнил с умилением и любовью, поражаясь, как мало ценил и понимал прежде всю особую красоту этого изгнаннического бытия, этих чаяний и ожиданий на чужбине, на реках Вавилонских. Вспомнил он полунощный молебен под Новый год в русской эмигрантской церкви, крупную фигуру владыки на возвышении посредине храма, в светлом облачении, в ореоле седых волос под митрой, его непослушный, страстный и громкий голос, ломающийся где-то в сводах, воздетые руки и слова молитвы о богохранимой стране Российской, и людей, подходящих под благословение — всё знакомые лица! В сущности, был это кусок России, настоящей России!.. А после молебна возвращались по темным, узким, кривым улочкам старого славянского города домой или к друзьям для встречи Нового года, громко разговаривая по-русски к удивлению отдельных встречных туземцев, и, если на улицах этого старинного города со множеством церквей и деревянных домов лежал снег, то память и чувство России усиливались до боли. И вот двадцатилетняя надежда становилась действительностью — корнет Подберезкин возвращался в Россию! Правда, возвращался он не так, как представлял себе все эти годы, — не в рядах белой армии, очищающей огнем и мечом родную землю от полонившей ее нечисти. Огня и меча было достаточно, впрочем, и теперь, но несло их не белое русское войско, не под его победными знаменами вступал он на русскую землю, а в рядах чужой армии, воевавшей с его родной, хотя и оскверненной, страной. Вызывало это в корнете странные и неясные чувства. Когда началась война, то сначала радостно прянуло сердце: вот оно наступило, то, чего двадцать лет ждали не переставая, — освобождение родной страны, пусть даже с чужой помощью; место его, бывшего офицера белой армии, было, во всяком случае, там, впереди; точило, однако, сердце при этом и какое-то сомнение.