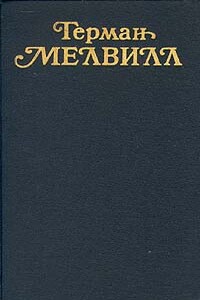Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 58
Слушая эти таинственные слова, я смотрю кругом на все столь знакомые мне вещи: на серебряный самовар на столе, малиновый альбом для фотографий с золотым тиснением, с серебряными застежками, который я еще вчера разглядывал, на огромный фикус в углу с негнущимися острыми листьями, шерстяную накидку матери, наброшенную на кресло, трубку отца на пепельнице, — и мне кажется невозможным, невероятным, что через несколько минут всего этого уже не будет, что вообще можно жить без этих, столь дорогих вещей. Уезжал я тогда всего на шесть месяцев до летних вакаций — отчего же так разрывалось, леденело сердце?.. Ужели чувствовал я, что видел всё это в последний раз, в последний раз был дома, там, где пласт за пластом легла жизнь, вся пропитанная миром, благостью?.. Теперь же, смотря туда назад, я не могу всё еще поверить, чтобы мир этот исчез, сгинул без следа, как тот альбом; всё кажется, что стоит между нами только стена, непроницаемая стена, которая должна когда-нибудь рухнуть.
А мать кончила чтение, стоит и крестится молча. Потом отец подходит ко мне, крестит трижды, целует в щеку, со словами: «Ну, поезжай, Христос с тобой. Учись, веди себя хорошо». — И, замирая сердцем, я приближаюсь к матери, едва сдерживая слезы при виде ее огромных глаз и худого лица, — но надо крепиться, отец нарочно вызывал меня к себе, просил не огорчать матери. Она тоже крестит меня и прижимает к груди и долго держит так молча — я слышу, как неровно и часто бьется ее сердце, — а затем разом отпускает, еще раз быстро крестит и идет к моим вещам. Машинально, почти бесчувственно я прощаюсь с сестрами и братом, с Ивушкой, и все мы выходим на крыльцо. Там стоят Авдей, Настасья и Палашка, я им протягиваю руку и спускаюсь в темноту. Егор ходит около лошадей, Воронко запряжен в пристяжку, бьет нетерпеливо копытом.
— Рабочий конь на соломе, пустопляс на овсе — говорит укоризненно Егор, но в голосе его звучит довольство.
С трудом я залезаю в сани, под кибитку, на медвежью полость и сено, меня укутывают сверху, а я словно одеревенел, вижу только красные просветы во тьме от наших окон, темные фигуры около кибитки и иногда чуть освещенное лицо матери, слышу голос отца, убеждающего ее: «Анюта, не простудись, ты бы хоть шаль накинула».
Потом Егор взметывается легко на передок, и разом кончается вся эта тягостная толчея — берут с места кони, в темноте я вижу еще, как крестит воздух мать. А когда мы выезжаем за ворота, вдруг вскакивает на сани мой брат Миша, что-то шепчет торопливо и что-то сует мне в руку, соскакивая кричит: «Скорее приезжай обратно!» — и исчезает. Я силюсь высунуться из кибитки, посмотреть еще раз назад на наш дом, но, когда мне это, наконец, удается, он уже исчез во тьме… навсегда!..