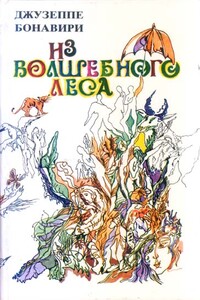Возвращение корнета. Поездка на святки | страница 123
— Задремал, сирота? — спросил вдруг мужик.
— Bitte, veratehe nicht, — отозвался Подберезкин, весь сразу напрягаясь.
— А ты не маши головой. Это я промеж себя говорю, у нас только с собой и поговорить можно, с чужими упаси Бог. Да вот разве что с тобой — немым.
— Bitte? — повторил Подберезкин.
— Ляжи, ляжи, знай! — проговорил мужик. — Смотрю я на тебя — и всё мне старина вспоминается. Ну точь-точь ты барин старый, Подберезкин, царствие ему небесное, как старики говорили, только что помоложе да без бороды. А то совсем одна обличья.
Подберезкин едва не прянул с криком — до того неожиданны были эти слова, но мужик смотрел уже на сторону, говорил задумчиво, точно сам для себя:
— Хороший был хозяин, племенных жеребчиков разводил, после перебили всех товарищи. Человек был степенный. Помню, к отцу в избу заходил, не гордился, руку подаст: как живешь, Миколай Ефремович? Это мой отец так звался. Квасу выпьет, «хороший, скажет, у тебя квас». Никого не облаял на своем веку, не то, что теперь начальство с совхозу: что ни слово, то лай да матюк.
Он опять посмотрел на Подберезкина, как бы ожидая ответа. И корнету мучительно хотелось отозваться, поговорить с этим человеком, знавшим его отца, по-настоящему поговорить о России, о своих местах — за двадцать лет представлялся первый раз такой случай. Невыносимо было притворяться чужим, не сметь понимать родного языка. Но кто был этот мужик?.. Он напрягал память.
— Русской речи не понимаешь, — продолжал мужик, — а говорю: жизнь была хорошая, не верю, что и была. Тугие пошли теперь времена. Разорили Россию, как раз дунули, дивлюсь я, как могло такое быть. Вы вот, немцы, пришли, народ надеялся — может теперь мужикам землю воротят. Не могу я без своей земли, живу, что в чужом краю потерянный. Я ее, землю-то, больше бабы миловал, холил, гладил. Бабу-то свою и бивал, один раз по спине кнутовищем вытянул, а на землю руки не подымал. Дурного слова земле не сказал. А вы, немцы, вышло, совсем глупый народ. Россию под себя поставить хотели — слыханное ли дело! Всё пожгли, пограбили, народ угнали — что татары. Вон у меня и избы не осталось. Ночевать негде. Я на тебя не злоблюсь. Никc гут война, — продолжал он, обращаясь к Подберезкину. — Твоя дела тоже подневольная. А теперь вот Семухину достался. Мать сердцем о молитве проси. Нет сильней материной молитвы. Со дна моря вызволит.
Этот мужик принадлежал той России, что знал и любил корнет, и он чувствовал себя здесь тоже как в чужом краю. Откуда, кто он был, как его звали? Подберезкин вглядывался в лицо мужика, стараясь сообразить, кем он мог быть? Кто из ребят, что помнил он из тех времен, мог обратиться в этого мужика? Никто подходящий, однако, не отыскивался; очевидно происходил он из одной из соседних деревень. Так и тянуло спросить: жив ли тот или этот; с трудом корнет хранил молчание.