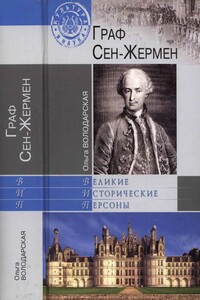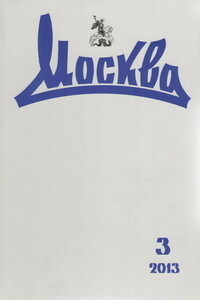Николай Гумилев | страница 77
С другой стороны, и в интеллигентской среде уже с 1890-х годов все яснее проявлялся интерес и сочувствие к Церкви, прежде всего в кругах, близких к петербургским модернистам, душою которых были Мережковские и В. В. Розанов. Горячность этих «неслыханных» бесед обуславливалась в немалой степени тем, что обе стороны, если не умом то сердцем, ощущали крайнюю необходимость в согласии с противной стороной как для собственного существования, так и для судеб всей России. Уже в эмиграции, пережив кошмар 1917–1919 гг., Зинаида Николаевна Гиппиус писала, что если бы союз интеллигенции и Церкви тогда, на рубеже веков в России, был заключен, то «может быть, Церковь не находилась бы сейчас в столь бедственном положении, а интеллигенция не вкушала бы сейчас горечь изгнания» (см.: Религиозная жизнь и культурное наследие России. Православие в России. М., 1995. С. 102).
И все же, хотя, казалось, все мыслимые положительные предпосылки для заключения союза были налицо, истинным результатом этих добровольных совместных усилий стал не приход интеллигенции в Церковь, а, наоборот, новое, небывалое еще в истории России, уже не общественное, а религиозное отчуждение демократической интеллектуальной элиты страны от Православия. Стало гораздо хуже: если раньше, в XIX веке интеллигенция обладала хотя бы формальной «воцерковленностью» — в виде уступки «народным традициям» и «гражданской необходимости», — то теперь наступает период принципиального разрыва, выхода из церковной ограды — по соображениям совести. На это особо обращал внимание в речи, открывавшей «Гумилевскиечтения» 1996 года, академик А. М. Панченко: «Церковь расходится со светским обществом. А вот к концу XIX века наступает перелом, стремление к какой-то религиозности, среди людей общества. Ведь вообще “серебряный век” — это очень религиозно окрашенный век. Я не имею в виду, что эта религиозность — православная; но несомненно то, что интеллигенция — и прежде всего интеллигенция — начинает тянуться к вере. […] Тогда же обер-прокурор разрешает религиозно-философские собрания. Там интеллигенты и церковники собираются, знакомятся…[…] Там выступают Мережковский, Розанов… Но из этого ничего не выходит, и через два года тот же обер-прокурор синода, К. П. Победоносцев, эти собрания запрещает. И все равно религиозная тоска в обществе проявляется сильней и сильней и — ищет выхода. Причем, наряду с мистикой, столоверчением, кликушеством происходит какое-то бегство из Церкви. Это бегство — явление очень интересное. Были, конечно, люди с простой и ясной верой, с теплой душой — вроде о. Иоанна Кронштадтского, но и не случайно возрастали среди них будущие “обновленцы”, например, знаменитый “живоцерковник” Александр Введенский, будущий прихвостень советской власти; тут же и Распутин со всей своей “свитой”. В каких уродливых формах воплощается религиозное рвение! Прежде всего, в сектантстве: духоборы, молокане, тот же Лев Толстой и “толстовцы”… Тут сказали свое слово и писатели “серебряного века”»