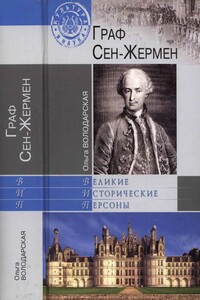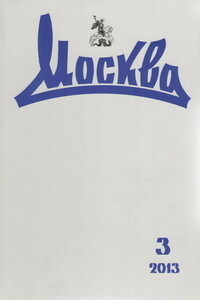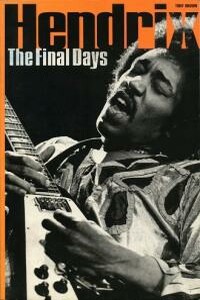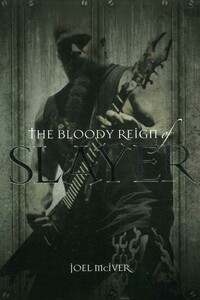Николай Гумилев | страница 71
Незадачливый ловелас из этого «сатириконовского» стихотворения подозрительно совпадает с автором в методике «покорения сердец» — свидетельства тому можно найти в воспоминаниях Войтинской, Васильевой, Арбениной, Одоевцевой и многих других. Однако «донжуанская» история Гумилева с редкой наглядностью доказывает правоту старой истины, утверждающей, что всегда лучше плохо начать, чем плохо кончить: та любовь, которую вопреки всему он внушает, если и начинается как игра, всегда обращается затем в душах его избранниц в трагический жертвенный огонь, очищающий и просветляющий все гумилевские любовные сюжеты. И здесь уже никакая ирония неуместна.
Для самих гумилевских избранниц — по крайней мере, для тех, которые оставили воспоминания, — причина этого парадоксального эротического обаяния является всегда некоей глобальной загадкой. «Существовало общепринятое мнение: “Блок красивый, Гумилев — некрасивый”. Противоположности во всем, — пишет O.A. Мочалова (для Гумилева, как она и сама признается, не многим более чем случайная знакомая). — Не могу примкнуть к этому суждению. Его стать, осанка, мерный шаг, глубокий голос, нежно и твердо очерченные губы, тонкие пальцы белых рук, а главное, окружавшая атмосфера — все не укладывалось в понятие “некрасивый”. В нем очень чувствовалась его строфа:
>Эти слова — реальная действительность» (Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 113).
И опять, и опять все свидетельства неукоснительно возвращаются к единой характеристике облика Гумилева.
Внутренняя сила. Неимоверная. Непонятная. Не связанная с его конкретными поступками, а как бы просто присутствующая в нем. Сила такая, какой и в помине не было ни у кого из его современников, по крайней мере у литераторов.
Впрочем, для того, чтобы оценить это внутреннее отличие Гумилева от литературной братии Серебряного века, вполне можно обойтись и без женской интуиции. Достаточно было просто, хотя бы и случайно, оказаться свидетелем сцены, подобной той, о которой рассказывается в воспоминаниях Л. И. Страховского. Леонид Иванович Страховский, малоизвестный поэт и литературовед «русского зарубежья», видел Николая Степановича лишь однажды — на знаменитом скандальном вечере общества «Арзамас» в Тенишевском училище 13 мая 1918 года, где, после чтения Л. Д. Блок поэмы «Двенадцать», публика устроила обструкцию. «…B зале поднялся бедлам, — вспоминал Страховский. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял: “Я не пойду, я не пойду”. И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: “Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали”. После этого он повернулся и пошел к двери, ведущей на эстраду. Это был Гумилев.