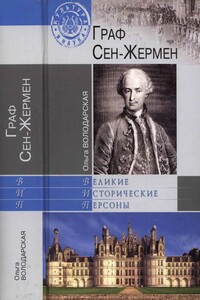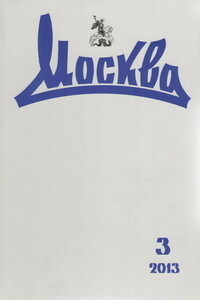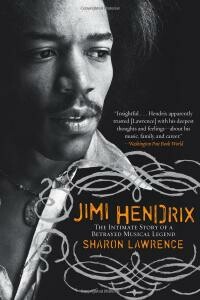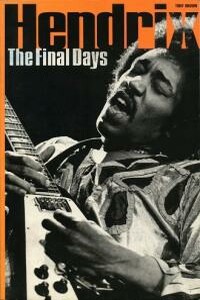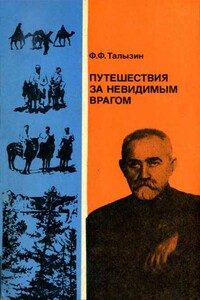Николай Гумилев | страница 70
И тем не менее…
И тем не менее — в него влюбляются. С первого взгляда. С полуслова. С улыбки. Ему безоглядно и искренно прощают даже и такое, что вообще-то прощать не следует, и — факт поразительный! — в «женской» части гумилевской мемуаристики, при всем различии «фактологии» и темперамента воспоминательниц — от Ахматовой до Арбениной — с удивительной постоянностью выдерживается единый безусловно доброжелательный тон. Он умудрился никого из своих многочисленных пассий не обидеть до конца и остался в их памяти в чем-то главном, хотя бы и «печального образа», но все-таки «рыцарем без страха и упрека». Его стихотворное пророчество (стихотворение «Священные плывут и тают ночи…»):
— сбылось полностью: женщины сохранили его для себя и для читателей (и читательниц) последующих поколений именно таким, каким он и мечтал остаться в бессмертии.
Вообще, складывается впечатление, что его многочисленные любовные «победы» происходят всегда как бы вопреки его собственным действиям в начальной стадии любовного романа, как правило, провально нелепым. Роль «импровизатора любовной песни» ему явно не удается, он всегда мучительно придумывает некие искусственные «замысловатые предлоги», имеющие целью заинтересовать понравившуюся ему женщину, и всегда добивается как будто бы противоположного результата, оказываясь с «прекрасной дамой» в некоем тупиковом, скучном, смешном и двусмысленном положении.