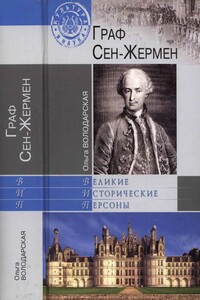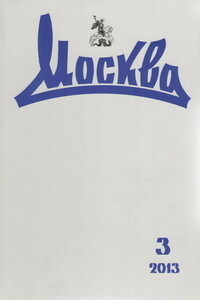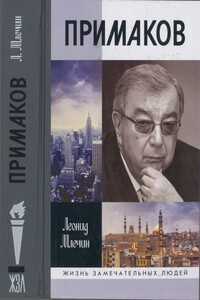Николай Гумилев | страница 65
— речь идет о символической фигуре духовного странника, а не о конкретно-исторической фигуре «надменного, неуязвимого и бесстрашного покорителя далеких пространств» (см.: Павловский А. И. Николай Гумилев // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. A., 1988. С. 9 (Б-ка поэта. Большая сер.), каковыми были реальные спутники Кортеса или Писарро. На символическое прочтение гумилевского текста неизбежно наталкивает обозначение целей странствий «конквистадора»: «звезда долин, лилея голубая», в отличие от земных сокровищ, является достоянием сугубо духовным, к какому бы источнику генетически ни восходил этот образ — к библейской ли «Песни песен» или к «голубому цветку» иенских романтиков. В этом же контексте осмысляется и знаменитый «железный панцирь», «радостный сад», «пропасти и бездны» и т. д. (см. об этом: Клинг О. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм // Вопросы литературы. 1995. № 5. С. 112–113). В новозаветной образности мы можем найти «военною метафору», связанную с понятием христианской «духовной брани»: «Всеоружие в брани с врагами нашего спасения ап. Павел указывает в следующих словах: верующие должны препоясать свои чресла истиною и облечься в броню праведности; обуть ноги в готовность благовествовать мир; взять щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого; взять шлем спасения и меч духовный, который есть слово Божие, и, наконец, молиться всякою молитвою и прошением во всякое время духом (Еф. 6:13–18)» (Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. Л.-Загорск, 1990. С. 98).
У Гумилева читаем:
Какое уж тут завоевание Мексики и Аргентины, которым занимались падкие до индейского золота и пряностей конквистадоры XV–XVII вв. «Сильный герой» действительно, как отмечал в упомянутой выше работе А. И. Павловский, лирически близок в гумилевской поэзии автору (отсюда и трактовка подобных фигур в гумилевском творчестве как «лирического героя-маски»), но сила его прежде всего в том, что он «духовным оком» видит то, что не видят другие. «Гумилев не только создатель новой поэтической школы, не только яркий мастер стиховеденья и языка (какой стилистической прозрачностью веет от каждой его строчки!), — но и подлинно христианский поэт, обращенный к сущности, — а потому и учитель жизни, свидетельство свое закрепивший мученической кончиной. Сам Гумилев сознавал религиозно-этический пафос своего творчества. Он говорил, обращаясь к читателям: