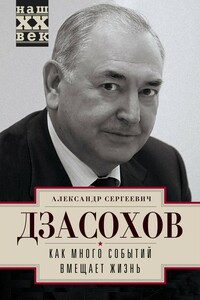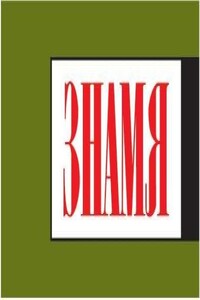Николай Гумилев | страница 59
«Адамизм, являясь не миросозерцанием, а мироощущением, занимает по отношению к акмеизму то же место, что декадентство по отношению к символизму», — говорил Гумилев (Аполлон. 1913. № 1. С. 71). Но, как справедливо заметил Р. Эшельман, гумилевское определение адамизма является «полуцитатой» из Книги Иисуса Навина: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь» (Нав 1, 9; см. также 1, 6–7), причем, если учесть, что мотивы этой ветхозаветной книги непосредственно присутствуют в творчестве Гумилева, в частности в стихотворении «Слово» («Солнце останавливали словом, Словом разрушали города»), то можно говорить именно о сознательной реминисценции, а не о случайном совпадении (см.: Эгиельман Р. Гумилевское «Слово» и мистицизм // Русская мысль (Париж). 1986. 29 августа). Смысл подобной реминисценции очевиден: «твердость и мужественность» «адамистического взгляда на вещи» возможна только потому, что это — воцерковленный взгляд, созерцающий мир «по-Божески», так, что результаты этого созерцания находятся в согласии с волей Творца. Подобным «твердым, мужественным и ясным взглядом на вещи» обладал Адам до грехопадения: по слову св. Серафима Саровского, «Адам до того преумудрился, что не было никогда от века, нет да и едва ли будет когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божиему, дарованному ей при сотворении» (см.: Иеромонах Серафим (Роуз). Православное святоотеческое понимание книги Бытия. М., 1998. С. 112). Термин Гумилева в этом контексте приобретает ограничительный смысл: не всякое «твердое и мужественное» мироощущение может стать основанием для акмеистического мировоззрения, а