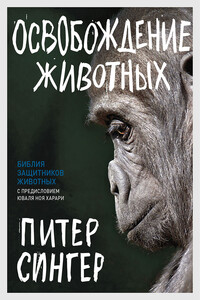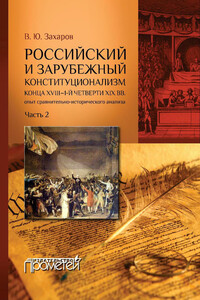Хватит убивать кошек! | страница 98
Конечно, отношение социальной истории XX в., и прежде всего школы «Анналов», к прокрустову ложу национальной истории было достаточно негативным. Собственно, именно с возникновением социальной истории на грани XIX–XX вв. связана попытка отойти от модели национальной истории, которую стали теперь отождествлять с политической или событийной историей. Многие социальные историки были настроены скорее социалистически и космополитически, нежели республикански и патриотически (хотя всплеск национализма в 1914 г. показал слабость социалистического космополитизма). Позднее ученые школы «Анналов» стремились сделать историю «более широкой и более гуманной», поставив на место истории национального государства, которая была главным объектом их критики, историю человека во всей ее полноте — от экономического быта и социальных связей до религиозного сознания. После Второй мировой войны эта попытка была поддержана большинством левых историков в других странах. Именно с преодолением истории национального государства школа «Анналов» и ее сторонники связывали надежду на освобождение истории от политических идеологий и превращение ее в науку[219].
Но несмотря на впечатляющее расширение своей «территории», история даже в изложении школы «Анналов» не перестала быть биографией нации — «национальным романом», по словам Пьера Нора. Революция в исторической науке, провозглашенная Блоком и Февром, удалась лишь частично. Она обогатила историографию блистательными трудами и стала основой ее наивысшего подъема, но не смогла принципиально изменить свойственную европейской культуре идею истории и, в частности, разорвать связь между последней и национальным государством. Интеллектуальный горизонт французской историографии, необычно широкий в 1930–1950-е гг., сузился в 1960–1970-е гг., когда в основных трудах третьего поколения школы «Анналов» в центре внимания вновь, как и во времена республиканской школы, оказалась история Франции. «Гексагональное» видение истории сегодня многие считают причиной кризиса социальных наук в этой стране[220]. О том, как трудно преодолеть «франко-французскую» замкнутость и выйти за привычные пределы в осмыслении прошлого, свидетельствует факт, что даже наиболее радикальная из современных попыток обновления истории, поставившая на место «национального романа» мозаику «мест памяти», сохранила зависимость от национального кадра и ограничила свой предмет национальной памятью.