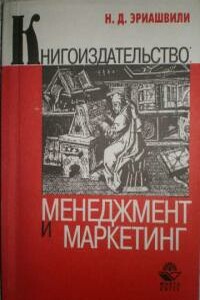Хватит убивать кошек! | страница 91
Идея глобальной истории сформировалась в эпоху Просвещения именно благодаря тому, что у истории появился общий смысл и понятное направление. Именно тогда модель истории как всеобщего процесса становления пришла на смену модели прошлого как мозаики поучительных эпизодов[203]. Просветителей часто упрекают за неисторизм, и это справедливо в том смысле, что они делали акцент на универсальной, вневременной природе человека. Однако они мыслили исторично постольку, поскольку в основе их взглядов лежала идея исторического развития как пути человечества к воплощению своей природы (идея, имевшая несомненное структурное сходство с христианскими представлениями). Проект будущего наделял исторический процесс единством и смыслом. Тем самым он делал всеобщую историю возможной. Но не забудем, что проект будущего, в свою очередь, мыслился как реализация природы человека.
В XX в. природа человека проявилась со стороны, плохо совместимой с оптимизмом просветителей. Разочарование в разуме, постепенно нараставшее с конца XIX в., было усилено трагическим опытом мировых войн и тоталитарных режимов. Эволюция, однако, была сложной, «гуманитарные катастрофы» порождали не только культурный пессимизм, но и стремление к его преодолению, поскольку в «разрушении разума» многие видели не столько следствие, сколько причину массового геноцида. Это, возможно, отчасти объясняет эффект «отложенного разочарования», характерный для периода после Второй мировой войны, когда в условиях «блестящего тридцатилетия» имел место расцвет технократической идеологии (и социальных наук). Лишь постепенный упадок, а затем и крушение коммунистического режима (гораздо более непосредственно, чем фашизм, связанного с проектом Просвещения) породил массовое ощущение распада этого проекта и кризис современного исторического сознания.
«Неподвластное прошлое», отмеченное ГУЛАГом и Аушвицем, «прошлое, которое не проходит», властно завладело социальной памятью (или, будучи вытесненным, деформировало ее — но это тоже форма владения). Даже многократно описанное, оно не стало более интеллигибельным. Прошлое исчезло — и как предмет рационального дискурса социальных наук, не сумевших выразить его экзистенциальное значение, и как «прекрасная непрерывность» истории европейских наций, из которой выпало не поддающееся объяснению звено