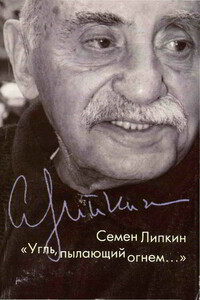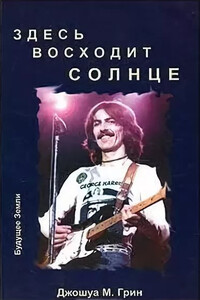«Возможна ли женщине мертвой хвала?..» | страница 10
В утро того дня, когда я собралась уйти к Т., он сговаривался с ней по телефону о вечерней встрече и, заметив, что я пришла из ванны, очень неловко замял разговор. Откуда у него хватило сил и желания так круто всё оборвать? Я подозреваю только одно: если б в момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были б написаны, очень возможно, что он мне дал бы уйти к Т. Это один из тех вопросов, которые я не успела задать О.М.
И при этом он болезненно переживал всякое стихотворение, обращенное к другой женщине, считая их несравненно большей изменой, чем всё другое. Стихотворение «Жизнь упала, как зарница…» он отказался напечатать в книге 28-го года, хотя к тому времени уже всё перегорело и я сама уговаривала его печатать, как впоследствии вынула из мусорного ведра стихи в память той же Ольги и уговорила его не дурить. Честно говоря, я считала, что у меня есть гораздо более конкретные поводы для ревности, чем стихи, если не живым, то уж во всяком случае умершим[21].
Судя по всему, Надежда Яковлевна, описывая здесь этот кризис, еще не читала воспоминаний Ольги Ваксель (точнее, их фрагмента о себе и о Мандельштаме).
В таком случае это было написано еще в 1966 г., поскольку знакомство с мемуаром Лютика состоялось в феврале 1967 г., когда ее посетил Евгений Эмильевич и показал означенный фрагмент, любезно перепечатанный для него на машинке сыном Лютика. Эти страницы взволновали Надежду Мандельштам до чрезвычайности, — ей все мерещилось (и это впоследствии подтвердилось), что фрагмент неполный, что есть в этих воспоминаниях что-то еще.
Это «что-то еще» потому так и взволновало ее, что было не вымыслом, а правдой, и то, как это «что-то» могло преломиться в чужих воспоминаниях, глубоко и сильно тревожило и задевало ее. Убедиться в том или ином, но минуя при этом Евгения Эмильевича, стало для нее глубокой потребностью и чуть ли не идеей фикс.
Человеком, который раздобудет для нее мемуары Лютика целиком, Надежда Мандельштам «назначила» Александра Гладкова, «литературоведа и бабника», как она сама его охарактеризовала. 8 февраля 1967 г. она отправила ему письмо, поражающее своей длиной, но еще более — откровенностью.
Но иначе, правда, было бы не объяснить ту самую настоящую панику, названную в письме легким испугом, и тот случившийся с ней припадок «ужаса публичной жизни» — мол, «все выходит наружу, да еще в диком виде».
Дорогой Александр Константинович! У меня к вам трудное и сложное дело. Оно настолько интимно, что должно остаться между нами. Почему-то у меня появилась надежда, что вы сможете мне помочь. <…> Дело в том, что героиня нескольких стихотворений О.М. («Жизнь упала, как зарница», «Я буду метаться по табору улицы», «Возможна ли женщине мертвой хвала») вышла замуж за какого-то норвежца (29-30-31 год) (в Осло, а не в Стокгольме), умерла в Осло (самоубийца, выстрелила себе в рот), а перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары. Муж отвез их сыну, живущему в Ленинграде (сплошная патология — и она, и муж — [и] мемуары!). У этого сына культ матери, который выражается в том, что он всем раздает ее мемуары и фотографии (они были у Анны Андреевны и у многих других). Хочет меня видеть. Хорошо бы обойтись без меня… Но выяснилось, что мне нужно увидеть эти мемуары, надиктованные мужу. Ужас публичной жизни заключается в том, что всё выходит наружу, да еще в диком виде. Я ничего не имею против варианта, что О.М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее.