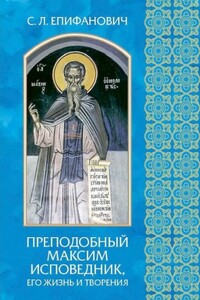Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие | страница 34
Грехопадение человека
Падение произошло в той области, в которой человек и долж6н был осуществить свое назначение, — в области произволения. Здесь начало зла. На зло преп. Максим смотрит под углом зрения Ареопагита, обычным, впрочем, вообще для всего греческого богословия. Зло не есть что‑либо субстанциальное или имеющее бытие по естеству; оно — лишь недостаток (ελλειψις) естественной энергии, неправильное движение ее[400]; само по себе, независимо от естественной энергии, оно — небытие (ανυπαρξία) [401]. Обнаруживается зло лишь в свободной воле разумных существ, когда они по ложному суждению[402] движутся помимо истинной своей Цели — Бога[403], в Котором только и можно найти истинную опору бытия[404] и отделение от Которого приближает к небытию[405]. В таком неправильном движении сил души и заключается грех первого человека. Вместо Источника жизни и обожения он обратился, как к чему‑то более реальному, к чувственным благам[406], и в видимом мире стал искать для себя точек опоры[407]. Вместе с этим все силы души его получили неподобающее направление, наклонились ко злу, ко страстям. Ум забыл свое истинное питание, ведение духовное, и прилепился к чувствам, вместе с чем подпал духовной слепоте, страсти неведения Бога и вещей божественных -αγνοια [408], утратил способность созерцать божественное, видеть духовную истину, таинственно возвышаться к Богу[409]. Вслед за отпадением от духовной истины и наклонением к чувствам, в человеке — под влиянием чувственного познания природы как источника наслаждений и страданий («no–знания добра и зла») - возобладали плотские влечения