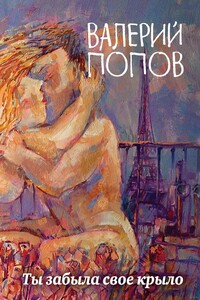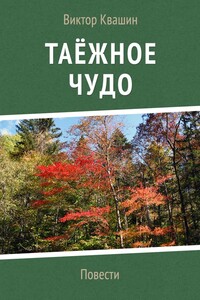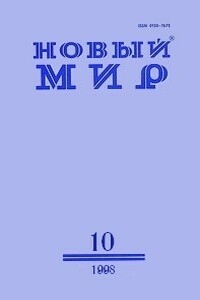Реквием по живущему | страница 54
А тот уже палит из револьвера в эхом прозревший воздух, и тогда отец тянется за своим, но тут же, поласкав прохладную рукоять, окорачивает себя строптивым воспоминанием о лавочнике и старике, что скрепили этой холодной сталью взаимную выгоду и снарядили к ней в прислужники двух соглядатаев. И здесь отцу уже не до забавы, и для начала он ежится под дождем, чтобы остудить обманом шею и разум, а после слушает глоткой горький, едкий дух испитой водки и затевает в себе отвращение к ней и к бестолковой собственной радости, и на того, у ручья, смотрит теперь другими, укоряющими и отрекшимися глазами. А потом и вовсе отворачивается, чтоб не глядеть на то, как справляет чужак над обрывом малую нужду, высвистывая сквозь щербины в зубах покойную свою беспечность, и говорит отцу: «Ну вот, считай и обручились. С дождиком-то...» А отец все ежится под буркой, вобрав голову в плечи, и длинно думает: «И чего это рядом с ними любой свой год будто за два чувствуешь? Отчего и горы наши им совсем нипочем, словно потому только тут и выросли, чтобы им занятней выпить было да в пропасть наструить? Откуда в них силы столько, чтобы дружбой своей угощать первого же хмурого попутчика на его же хмурой земле под хмурым небом его, устелившим им путь нудным недобрым дождем? Откуда в них столько силы, чтобы даже не понимать, как с ними рядом потно и хлопотно?..»
И когда он, попутчик, всхрапнув и булькнув горлом, утыкается виском ему в плечо, доверив отцовской робости сладкий сон свой и тяжесть размякшего тела, тот рассуждает про себя с каким-то мрачным удовлетворением: «Чего с него возьмешь, коли кроме ихней силы ему и тягаться-то не с чем, потому как очень уж лень? Да и как не лень будет, когда она, сила эта, кого угодно усталостью сморит, не то что этого чудака со слепыми стекляшками? Видать, Для нее что стыд, что опаска — все равно как тесный хомут для кобылы, одно мучение. Чего с него взять!» Только чувствует он больше, чем может сам °ебе растолковать словами, а потому старается не Думать о затекшем от чужого сна плече и не замечать приятного волнения в груди,— такого же, какое бывает, когда раздавишь у птичьего гнезда гадюку или накормишь с руки захворавшего жеребца. Выходит, в нем тоже таится загадка, подобная той, что дышит ему в плечо, и оттого самое разумное, на что он теперь способен, это ждать и следить за дорогой, которая только и может помочь ему осознать степень их родства (или степень различия), ведь ей, дороге — так ему кажется,— суждено тянуться несколько месяцев, а возможно, и несколько лет, коли выгорит дело, и значит, самое разумное — это запастись терпеньем и думать о том, что поближе — ну хоть бы о последней до аула версте или живущем в нем старике, что рассчитал весь путь наперед не покидая дома и на веку своем проигрывал столько раз, что в конце концов научился обращать сыновью неграмотность в бумажный залог своей удачи. И мысль отцова, покружив улыбкой по губам, за Скалистым поворотом сквозь туманную хлябь еще прежде глаз отыскивает неровный ломоть родного двора и дивится дедовой расторопности: ясли сдвинуты в самый угол, а на их месте высится дырявый коробок навеса. И тут же, стало быть, по цели им рукой подать — с полтысячи шагов по мшистому пути и каменному узкому мосту.