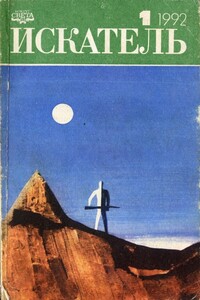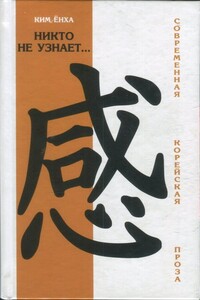Избранное | страница 74
Пистоя и Прато находятся уже в зоне влияния Флоренции, где все церкви и музеи, все улицы представляют собой настоящие музеи на открытом воздухе, где в один прекрасный день сошла на землю красота и затем несколько столетий неистовствовала в людях, как эпидемия зловредной лихорадки.
Флоренция! Волшебное слово! Флоренция, непостижимое диво! Вертоград восторгов и сюрпризов, когда же я снова сподоблюсь увидеть тебя! Флоренция — это утешение, очищение, омовение души; наверное, в ней очень трудно умирать. Я почти готов поверить в легенду, что флорентийцы не умирают, что живущие в этом городе остаются вечно молоды. Само собой разумеется, все его достопримечательности дотошно перечислены в «беде-кере», ужасно трезво и ужасно скучно, как имена влюбленных пар в муниципальной книге записей актов гражданского состояния. Да, чувство, пробуждаемое Флоренцией, ни с чем, кроме любви, не сравнить. Оно заполняет тебя раз за разом все глубже и делает несказанно счастливым, заставляет звучать лучшие струны души, у тебя словно вырастают крылья, и кажется, что можешь горы свернуть. И как в любимой, которая для тебя и человек и весь мир, открываешь во Флоренции все новые и новые черты, которые удивляют и восхищают, сколь бы долго ты здесь ни был. Это удивление и восхищение ты возвращаешь ей словно долг, и чувство твое становится от этого еще богаче и огромней, так что вынести его под силу только сообща.
Но любовь к Флоренции не разбивается вдребезги, как это порой бывает с настоящей любовью к женщине.
Я поселился у одной разведенной офицерши, державшей двух обезьянок и пансион для туристов. Вечерами мы частенько сиживали на кухне, иногда она выпускала из клетки обезьянок, и те начинали как сумасшедшие носиться повсюду; что они гадили, никого не волновало — все равно кругом была грязь. В одном углу кухни была настоящая свалка; фактотум хозяйки, немецкий юноша, осевший у нее, сметал туда весь мусор.
В доме была таинственная комната, в ней жили трое узкоглазых китайчат, всякий раз новых, торговавших галстуками и стеклянными бусами; у них я перенял восточную улыбку, не исчезающую даже от самого грубого обхождения. Им не было никакого дела до других; тенью проскальзывали они по коридору к себе в комнату. Китайцы выглядят настолько непривычно, что даже не верится, рождаются ли они на свет, как все люди.
Прочее общество состояло, во-первых, из тирольца который зазывал в пансион путешественников и за это ему разрешалось строить куры хозяйской дочери; он рисовал кисточкой картинки, а затем продавал их в разные конторы, он мог за какие-нибудь пять минут назвать первого встречного своим лучшим другом, обмануть его, выбранить и предать, а потом опять с ним помириться; его уста никогда не произносили слова правды. Он бойко говорил по-итальянски, так что сам собою оказывался переводчиком, но перевод его бывал настолько вольным, что в течение четверти часа мог превратить собрание благороднейших людей в ведьмин шабаш. Поначалу он не догадывался, что я тоже понимаю итальянский, так что я мог с возмущением, а после с любопытством наблюдать за его дьявольскими кознями Все переиначивалось таким образом, чтобы самому подняться в глазах матери и дочери. Однажды я убил целый вечер на диспут по трем выдвинутым им утверждениям: