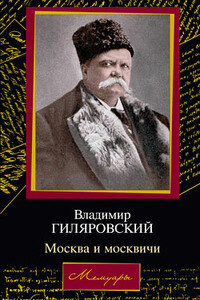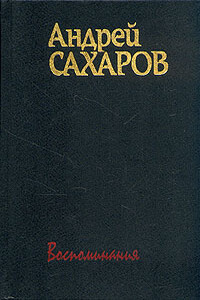Воспоминания | страница 26
Я тогда воспринимал (а в основном и сейчас воспринимаю) эти слова как проявление терпимости бабушки, ее широты. Но, пожалуй, есть и другая сторона, видная с позиций нашего времени, — терпимость проявлялась к новому, «имперскому» порядку, который создавался (или казалось, что создавался) после многих лет хаоса и «экспериментов». Не случайно бабушка в разговоре, как и другие люди ее поколения, употребляла выражение «в мирное время» (т. е. до 1914 года) — все потом было немирное. т. е. в этой терпимости был элемент ностальгии по стабильности. Сейчас тоже широко распространены ностальгия по стабильности и порядку, но уже не по дореволюционному, а именно по сталинскому порядку, по тому самому, современником которого была бабушка, о котором другая женщина написала:
Существенно, однако, в смысле позиции, что бабушка надеялась на постепенное смягчение и хотела его.
Несколько слов о позиции моих родителей по «национальному» вопросу. Сейчас уже трудно представить себе ту атмосферу, которая была господствующей в 20—30-е годы — не только в пропаганде, в газетах и на собраниях, но и в частном общении. Слова «Россия», «русский» звучали почти неприлично, в них ощущался и слушающим, и самим говорящим оттенок тоски «бывших» людей… Потом, когда стала реальной внешняя угроза стране (примерно начиная с 1936 года), и после — в подспорье к потускневшему лозунгу мирового коммунизма — все переменилось, и идеи русской национальной гордости стали, наоборот, усиленно использоваться официальной пропагандой — не только для защиты страны, но и для оправдания международной ее изоляции, борьбы с т. н. «космополитизмом» и т. п. Все эти официальные колебания почти не достигали внутренней жизни нашей семьи. Мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Я часто слышал их в детстве, так же как пластинки песен и романсов XIX века, и все это входило в мой душевный мир, но не заслоняло культуры общемировой.
Более подчеркнутая «русскость» была свойственна дяде Ване — она в нем была одновременно какой-то ностальгической и в то же время бесшабашно-лихой, очень эмоциональной.
Еще некоторые штрихи. Папа иногда, в связи с первой мировой войной и более далеким прошлым, с восхищением говорил о русских солдатах и офицерах, с переносом и на современную эпоху, но тут же говорил что-то аналогичное и о людях других национальностей. Вспоминал он и Суворова, но всегда в очень интересном контексте: якобы Суворов за всю свою жизнь не подписал ни одного смертного приговора — это была, как я думаю, некая форма оппозиции жестокому современному режиму (для меня образ Суворова поколебался, когда я узнал о разрешенных им зверствах в Варшаве и в других кампаниях, об участии в подавлении восстания Пугачева). Несколько раз папа говорил о том, какими талантливыми проявили себя русские эмигранты за границей (такие, например, как Зворыкин — изобретатель электронного телевидения). Русская культура моих родных никогда не была националистичной, я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях и, наоборот, часто слышал выразительные характеристики достоинств многих наций, иногда приправленные добрым юмором.