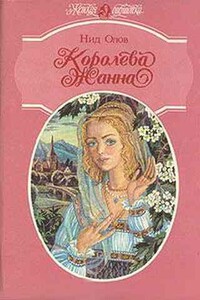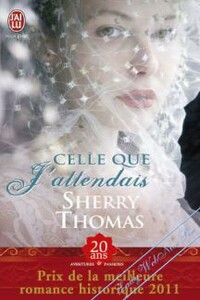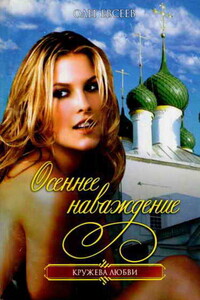Гости Анжелы Тересы | страница 51
Почему же ты не понимал этого раньше? — спрашиваешь ты меня теперь.
Любимая! Я думал, для того, чтобы писать — чтобы жить так, чтобы я мог писать — главным условием является свобода, та самая безответственная свобода, исключительные, особые условия жизни всякого художника.
А возможна ли вообще такая свобода? Я лично больше в это не верю. Для меня, по крайней мере, малейшая попытка всерьез ее осуществить лишь еще на один шаг приближает меня к моей гибели, гибели эгоиста, до того уже засохшего, что от меня остается один только жалкий шуршащий прах.
Лучше ты рассматривай меня просто как старый, сухой кактус с повернутыми вовнутрь колючками!
Хочу сознаться: мое одиночество с тех пор, как Эстрид вырвалась от меня на свободу, а ты за мной последовать отказалась, подействовало на меня, как лекарство. Оно внушало мне страх, но одновременно дарило опьянение. Весь мир отодвинулся назад, как это бывает, когда смотришь в перевернутый бинокль. Окружающие меня люди стали крошечными, как обитатели муравейника. Только я сам еще оставался размером с человека — кишевшие вокруг меня муравьи нимало меня не интересовали. Все мое интеллектуальное любопытство было обращено теперь вовнутрь, в глубь самого себя. Это было интересно, но в то же время немного противно — как если бы ежедневно с помощью рентгена наблюдать за процессом своего собственного пищеварения.
Поэтому постепенно это тоже мне надоело и стало казаться скучным и никчемным: зеркало Нарцисса помутнело. Отражение в нем оказалось не в фокусе, потеряло резкость и исчезло.
Люсьен Мари, не замечала ли ты, как наше «я» тускнеет, слепнет и теряет свое лицо, если у него нет какого-нибудь «ты», держащего перед ним зеркало, по сути дела являющегося этим самым зеркалом?
Есть, вероятно, люди, кому угодно готовые разрешить играть роль подобного «я»: артистическая публика, например, вообще те, кто и помыслить не может своего существования без зрителей.
А я артист никудышный, мне публику подавай самую что ни на есть изысканную, мне нужно совершенно особое «ты» одна-единственная, моя любимая и самая близкая. Ты.
Ты, конечно, можешь меня спросить: а как же Эстрид? Да, Люсьен Мари, она долго была моим «ты» — до тех пор, пока я не повернулся к ней со своим биноклем, тем самым полностью сместив все расстояния и размеры.
Помоги мне, Люсьен Мари — не разрешай, чтобы я сделал это еще раз!
Потому что на свете есть ты. Уже тогда, когда наш разрыв с ней был близок, ты была тем «ты», к которому стремилась моя душа. Но разве я это понимал? Ни в коем случае. Вспомни только то письмо, что ты мне сама процитировала. Я сознавал лишь,