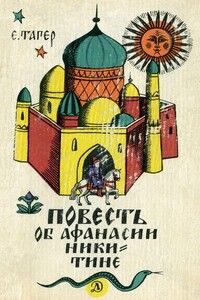Авантюристы | страница 25
— Готово? — закричал с крыльца его господин.
— Готово-с, — отозвался глухим басом слуга.
— Ну, с Богом! Усаживайтесь покойнее, сударь. Подушку вашу можете в ноги себе положить, у нас экипаж к продолжительным путешествиям приспособлен, — распространялся Илья Иванович, опускаясь на мягкое сиденье рядом со своим спутником.
Владимир Борисович перекрестился, и лошади тронули среди громки пожеланий доброго пути и скорого возвращения провожающих.
Илья Иванович с довольным видом заметил, что им удалось выехать раньше, чем он рассчитывал.
— Это я за хороший знак считаю, сударь. Опоздать, по-моему, все равно, что с попом повстречаться: такие тебе пойдут препятствия во всем, что ни за что потерянного времени не наверстать, — прибавил он, в то время как лошади, завернув за угол переулка, где был дом Углова, дружно побежали по пустой и молчаливой улице, залитой лучами восходящего солнца.
III
Владимир Борисович очень скоро освоился с новым своим положением путешествующего по казенной надобности. Только в первые дни страдал он от толчков и ухабов да от невозможности, с непривычки спать сидя, как его спутник; но мало-помалу он привык к этим неудобствам и без особенного сожаления отказался от удовольствия попариться в бане, топившейся на постоялом дворе, к которому они подъехали на седьмой день по выезде из Петербурга и где им весьма любезно предложили воспользоваться ею.
Предложение было так заманчиво, что, несмотря на необходимости торопиться, Илья Иванович не в силах был против него устоять.
— Ничего так не полезно дорогой, как баня, — уверял он своего спутника, советуя ему воспользоваться случаем попарить разбитые кости по-русски. — Как рукой, всю боль снимет.
Но у Углова были веские причины отказываться от этого предложения: до сих пор ему удалось скрыть от всех глаз письмо, висевшее у него на шее вместе с крестом, и он с радостью готов был вынести всякие неудобства, лишь бы добраться до границы благополучно. Кроме того он до сих пор не удосужился прочитать записку Фаины, и это не на шутку раздражало его.
Если в первые минуты после свидания с великой княгиней восторженное умиление сознавать себя хранителем тайны такой высокой особы заглушило в Углове все прежние чувства и мысли, то, по мере того как он привыкал к своему новому положению посланца цесаревны, эти чувства начинали оживать в его сердце, и вопрос, о чем могла ему писать коварная девушка, отвернувшаяся от него, когда его постигло несчастье, — все назойливее и назойливее навертывался ему на ум. Невольно приходило в голову, что он, может быть, напрасно обвинял Фаину в измене. Разве она свободна поступать так, как ей хочется? Разве она смеет ослушаться матери? Она, может быть, была поставлена в невозможность сойти сверху, когда он томился один в зале, терзаясь незаслуженным оскорблением и сомнениями насчет ее любви? Крутой нрав Анны Ивановны был известен, и если, несмотря на строгое запрещение его видеть, Фаина решилась-таки прибежать в коридор, чтобы взглянуть на своего милого, в надежде, что он ответит любовным взглядом на ее взгляд, то не доказывает ли это, что она к нему неравнодушна и страдает не меньше его от беды, обрушившейся на его голову? И наконец это письмо, посланное, — легко себе представить, — с каким страхом и опасениями! За такое преступление против всех правил девической чести и светского приличия, ее могли сослать в дальнюю деревню. Сенаторша Чарушина шутить своею материнскою властью не любила. Углову это было лучше известно, чем кому-либо: ведь он всю эту зиму был принят у них в доме, как свой человек.