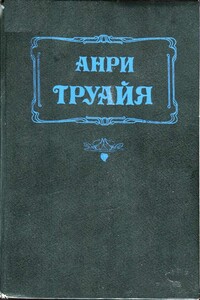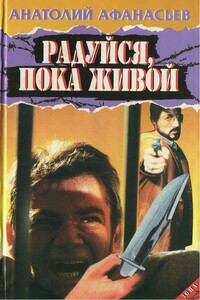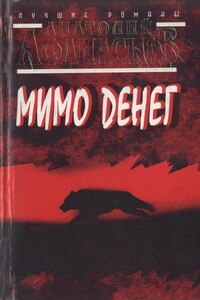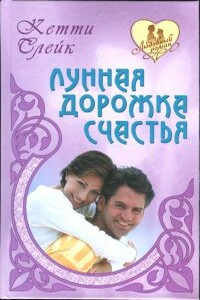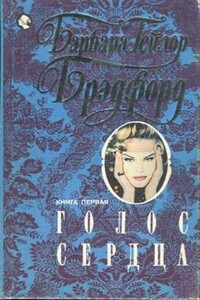Посторонняя | страница 75
— Я тебя расстроила? Не бери в голову, подружка. Чао!
Нина нацелилась уснуть на кушетке, подтянув под голову подушку-думку. Но Мирон Григорьевич заставил се встать и отвел в спальню.
— Ты мой самый любимый! — сказала ему Нина.
Муж помог ей раздеться, укрыл до подбородка одеялом, потушил свет и на цыпочках вышел.
Ночь Нина провела беспокойную, несколько раз просыпалась, разбуженная одним и тем же сном. Ей снился парализованный Певунов. Он подбегал к окну, распахивал ставни, вскарабкивался на подоконник и оборачивал к Нине страшное лицо с пустыми глазницами. «Прыгай! Чего телишься?» — кричал ему с кровати одноногий Газин. Нина порывалась задержать Певунова. В ужасе вскрикивала и от собственного крика просыпалась. Мирон Григорьевич накапал ей в рюмку валокордина и заставил выпить. «Ты самый мой дорогой на свете человек!» — еще раз уверила его Нина. Ей казалось, если она будет упорно, как заклинание, повторять эти слова, то ничего плохого с ней не случится. Утром она встала с головной болью и с тревожным ощущением утраты…
Утратой может быть и приобретение. Именно такая мысль пришла в голову Певунову, и он не мог ее понять, как ни старался. Он спросил у Газина:
— Скажи, у тебя есть какое-нибудь главное желание? — Он предполагал, Газин захочет, чтобы заново отросла нога, но услышал иное:
— Я тебя понимаю. Ты не меня спрашиваешь, себя. Но я отвечу. Главное у меня желание, чтобы не было войны.
С Газиным разговаривать было трудно. Его готовность насмешничать отбивала всякую охоту к нему обращаться. А у Певунова как раз появилось настроение почесать языком. Первые дни в Москве, стреноженный гудящей неподвижностью, он мучительно ожидал приезда жены, ожидал весточки от Ларисы, был весь еще там, в коловерти прежних отношений с людьми, но постепенно прошлое отдалялось, и, наконец, вся жизнь уместилась в замкнутом пространстве больничной палаты. Результаты анализов и утренние обходы врачей занимали его воображение так же полно, как прежде ожидание встреч с Ларисой или производственные хлопоты. Жизнь не кончилась с болезнью. Железный стержень, вонзившийся ему в спину в роковой вечер под скалой, продолжал сверлить внутренности и причинял боль, и он радовался, если иногда удавалось превозмочь эту боль, отстраниться от нее, чтобы она не мешала размышлять о разных разностях, не относящихся к текущему моменту. Он тешился ощущением свободы, пришедшим, казалось бы, в самых неподходящих обстоятельствах, свободы, заключавшейся в том, что ему никуда не надо больше спешить и ничего не надо предпринимать. Его обнадеживал каждый разговор с доктором Рувимским, который не стеснялся говорить ему, что он глуп, раз отказывается от вкусного больничного супа. Он наслаждался сновидениями, где встречался со многими, живыми и мертвыми, дорогими ему людьми. Но больше всего он благодарил судьбу за то, что она наконец отлучила его от никчемной и унизительной житейской суеты.