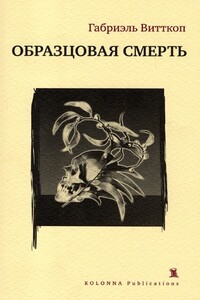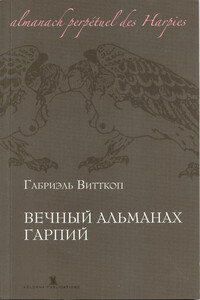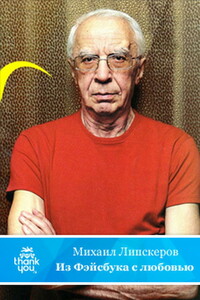Хемлок, или Яды | страница 20
Сестра Ипполита притянула ее к своему плечу, подумав: «Разволновалась из-за евхаристии». Добрая душа...
Падре Андреа Бельмонте, человек незатейливый (да ведь и само францисканское учение выражается в затейливом стремлении к простоте), падре Андреа Бельмонте, веривший в целебную силу крестильной воды, ненасытных льдов, белейших снегов и непорочного Агнца, чья жертва омывала детей от крошечных грешков, положил на язык Беатриче Ченчи облатку.
После мессы монахи угостили их в саду мягким белым хлебом, белым сыром и кисловатым вином, а затем первопричастницы, монашки и дон Марианно в камзоле из серебряной парчи с рубиновыми пуговицами - каплями крови - отправились в обратный путь под лучами послеполуденного солнца, которые золотили раскинувшийся у них под ногами город, пока на горизонте отливала фиалками Альба-Лонга.
Они пошли окольным путем через Кампо-де-Фьори, где у палаццо Спада калабриец показывал уродов. Уже издали слышались волынки и смех. Дело было в Фомино воскресенье, потому собралась куча народу: крестьяне на запряженных буйволами возах, пастухи в бараньих шкурах, кормилицы с двумя-тремя личинками на руках, подвыпившие каменщики, бабы на сносях, прогуливавшие мессу служанки, объедавшиеся на ходу семьи в полном составе, монахи, торговцы четками и образками, нищие, все еще согнутые под весом сброшенной ноши вахлаки. Кто-то смотрел с балкона, где развевалось белье, болтались бурдюки, клетки и кувшины. Из окон свешивались дети и старухи: груди тыквами и выступавшие за мраморные подоконники животы, а внизу, на пыльных и разбитых каменных плитах, между псиными и поросячьими скелетами выискивали корм взъерошенные куры.
На дощатом помосте, покрытом задубевшим от грязи бархатом, под барабанную дробь и звуки волынки выставляли напоказ уродов. У всех был одинаковый презрительно-равнодушный взгляд. Все застывали в одинаковой позе - злобно-выжидательной, как у пауков. Калабриец, утверждавший, что показывал их трем коронованным особам и бесчисленным принцам, заявлял, что кормит своих подопечных живыми крысами и цикутой. На столе возле музыкантов в костюмах полишинелей лежала безногая девочка лет семи, под небрежно раздвинутыми полами ее казакина виднелся ярко-белый живот и обрубки бедер, словно вырезанные из сала. Рядом с ней девица со слоновыми ножищами, которые превосходили по величине ее туловище и напоминали валяющихся на земле свиноматок, поигрывала веером напротив семейства людей-львов с Канар, один из которых был карликом. Они-то и вызывали больше всего смеха и остроумных шуток. Но самым уродливым, без сомнения, был гидроцефал без определенного возраста, с поломанной рукой на перевязи, пачкавшей лохмотья кровью. Голова, привязанная тряпками к спинке стула, напоминала бледную луну со свинцовыми тенями, а глаза и рот, не больше ногтя на мизинце, казались затерянными в бесконечности маленькими точками. При каждой барабанной дроби гидроцефал мучительно вздрагивал. Толпа сотрясалась от грубого веселья, в уголках разинутых до ушей беззубых пастей лопались пузыри слюны, в налившихся кровью глазах искрилась нешуточная злоба, слышалось отвратительное хрипение, которое под конец с треском перекатывалось каскадом нечленораздельных звуков, - так смеются в народе. Больше всего возбуждались нищие, трясшие от удовольствия костылями калеки, выглядывавшие между ногами зевак безногие, горбуны в усеянном мерзкими пятнами рубище. Смех заполнял их, как вода клоаку, выплескивался изо всех дыр, сминал в один комок торчавшие на лице огромные бородавки, язвы, закисшие глаза и волосатые уши. Беатриче тоже смеялась, но, едва завидев поломанную руку и безногую девочку моложе себя, неожиданно прониклась отчаяньем в ее взоре и застыла, будто у непредвиденного препятствия. Сестра Ипполита не смеялась.