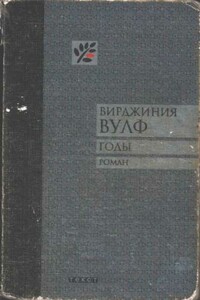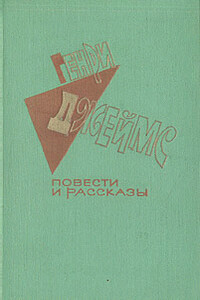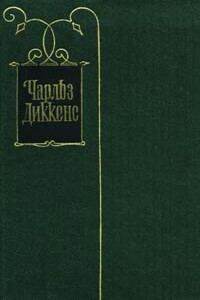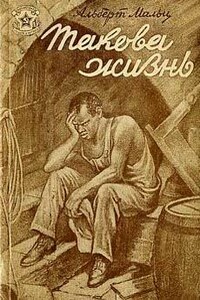Мадонна будущего | страница 27
— Вы не помните меня? — сказал я, протягивая ему руку. — Неужели вы меня уже забыли?
Ответа не последовало, он оцепенело сидел все в той же позе, и мне ничего не оставалось, как рассматривать его жилье. Оно печальнейшим образом говорило само за себя. В этих запущенных, грязных, полупустых стенах ничто, кроме кровати, не обеспечивало постояльцу даже самых скудных удобств. Комната служила одновременно и спальней и мастерской — жалкое подобие мастерской! Несколько пыльных гипсовых слепков и гравюр на стенах, три-четыре записанных холста, повернутых вовнутрь лицом, да побуревший ящик с красками — вот все, что вместе с мольбертом у окна составляло ее содержимое. Единственной ценностью была, очевидно, картина на мольберте — знаменитая Мадонна, надо полагать. Поставленная к двери оборотной стороной, она таила от меня лицевую; в конце концов, утолившись зрелищем голой нищеты, окружавшей моего друга, я — решительно, но мягко — проскользнул за его спиной и, надобно сказать, не испытал чересчур сильного потрясения от того, что обнаружил: холст был чист, если не считать грунтовки, потрескавшейся и выцветшей от времени; на нем не было решительно ничего. Так вот оно — его бессмертное творение! Но хотя то, что я увидел, и не повергло меня в изумление, сердце мое, признаюсь, дрогнуло от жалости, и несколько минут я не мог заставить себя заговорить. Наконец мое безмолвное присутствие дошло до сознания Теобальда. Он зашевелился, приподнялся, встал и вперил в меня медленно возвращающиеся к жизни глаза. Я залепетал какой-то умильный вздор о том, что он-де нездоров и нуждается в советах и уходе, но он, по-видимому, не слышал меня, сосредоточив свои усилия на другом — он пытался вспомнить, что произошло между нами в последний раз.
— Вы были правы, — промолвил он с горестной улыбкой. — Я — свистун. Пустоцвет. И ничего уже на этом свете не сделаю. Вы открыли мне глаза, и, как правда ни горька, я не виню вас. Аминь! Я всю неделю сижу здесь наедине с этой правдой, со своим прошлым, своим безволием, и нищетой, и никчемностью. Мне уже никогда не взять в руки кисть! Кажется, я не ел и не спал. Взгляните на этот холст! — продолжал он, выслушав мою настоятельную просьбу (в которую я вложил свои чувства) отправиться со мной пообедать. — Взгляните на этот холст! Я приготовил его для моего шедевра! Какое многообещающее начало! Все компоненты — здесь. — И он ударил рукой по лбу с той же мистической уверенностью, которая и раньше отмечала этот жест. — О, если бы я мог перенести их в мозги, которым придана рука и воля! Сидя здесь, я перебрал идеи, которыми полна моя голова, и убедился, что их хватило бы на сотни шедевров. Но рука моя уже не действует, и я их не напишу. Никогда. Я так и не начал писать, все ждал и ждал, когда стану достойным начать, а жизнь ушла на приготовления. Мне казалось, моя картина зреет, а она умирала. Я все примеривался и взвешивал. Микеланджело не примеривался, а пошел в капеллу Сан-Лоренцо. Он весь отдался своему делу, не взвешивая, что из этого выйдет, и то, что вышло из-под его руки, — бессмертно. А вот что вышло из-под моей. — И жестом, который я никогда не забуду, он указал на пустой холст. — Мне думается, в божественном мироздании мы, люди, наделенные талантом, но неспособные к действию, неспособные свершать и дерзать, составляем особый вид. Мы расходуем себя на разговоры, замыслы, обещания, на изучение наук и искусств, на мысленные образы. О, какие это образы! — воскликнул он, откидывая голову. — Блестящие! Тот, кто видел их, как видел я, не прожил жизнь даром! Но разве вы поверите в них, когда единственное, что я могу предъявить, — этот истлевший холст. А ведь чтобы убедить вас, чтобы покорить и изумить мир, мне не хватает одного — руки Рафаэля. Голова у меня — его. Знаю, вы скажете, мне недостает и его скромности. Увы, мне остается лишь разглагольствовать. Я — половинка гения. Где-то в мире затерялась вторая моя половинка. Может быть, она заключена в пошлой душонке, в ловких проворных пальцах какого-нибудь копииста или дюжинного ремесленника, фабрикующего сотнями свои поделки. Но не мне смеяться над ними. Они, по крайней мере, делают дело. О, если бы мне родиться заурядным малым, хитроватым и беспечным, если бы я мог, закрыв на все глаза, взять кисть и провести мазок.