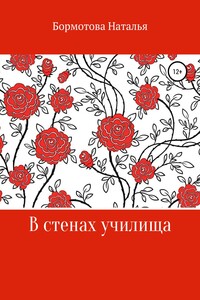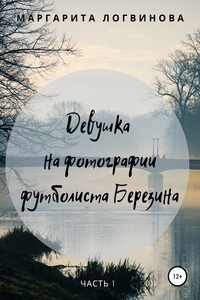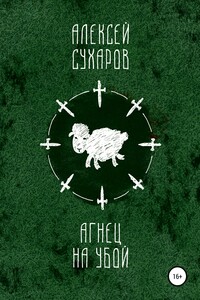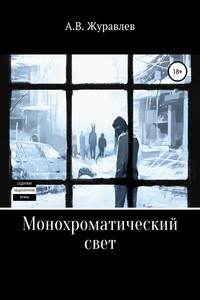Новый мир, 2013 № 03 | страница 224
Итак, поэтика Павла Гольдина сформировалась в диалоге как минимум с двумя заметными явлениями последних двух десятилетий: с одной стороны, это насыщенная, барочная поэзия авторов группы «Полуостров», а с другой — т. н. «новый эпос» с его вниманием к абсурдизму и примитивистским техникам письма. Последнее часто использовалось концептуалистами (от Д. А. Пригова до Юлии Кисиной), но их влияние не оказалось для Гольдина решающим: в его текстах мы не увидим той критики языка, которую предпринимали концептуалисты и их последователи (в том числе и представители «нового эпоса», такие как Арсений Ровинский и Леонид Шваб). Доверие к поэтическому языку соединяется у Гольдина со страстью к рассказыванию парадоксальных историй, призванных обескуражить, а иногда и насмешить читателя.
Демократизм этих текстов соединяется с попыткой проанализировать мифы, которые производит обыденное сознание (см. «Следы Советского Союза…»). При этом поэт говорит о другом на своем языке, вернее языке, который он считает своим. В этом проблема и интерес поэзии Павла Гольдина.
Денис ЛАРИОНОВ
Служба универсальности
Григорий Кружков. Луна и дискобол. О поэзии и поэтическом переводе. М., РГГУ, 2012, 516 стр.
А вообще нам несказанно повезло. Не смешай Господь языки во время Вави-лонского столпотворения и не сделай их разность не преодолимой до конца — каких бы огромных смысловых пластов мы лишились, каких форм опыта! Тут плодотворна (притом, подозреваю я, бесконечно плодотворна) сама до-конца-не-переводимость — провоцирующая на попытки с ней справиться, само наличие зазора между возможностями разных языков, заставляющего их тянуться друг к другу, испытывать себя на пластичность, отращивать себе новые щупальца.
Это, пожалуй, первая, хотя далеко не единственная мысль, на которую наводит чтение «Луны и дискобола» Григория Кружкова — суммы его переводческого опыта. Суммы, которая могла бы быть фрагментарной — поскольку составлена из текстов, написанных в разное время, с разными целями и даже отчасти в разных стилях, — когда бы не была такой цельной. А цельность ей сообщают лежащие в основе всего написанного единство опыта — и единство мышления, связность тем, которые по-разному проговариваются на разном материале.
Собственно, по самому большому счету, тема здесь, во всех ее ветвлениях, одна: как возможна переводческая работа.
Подобно тому, как филология вообще, согласно словам С. С. Аверинцева — служба понимания — работа переводчиков вполне может претендовать на имя службы универсальности (состояния, для человека, кажется, столь же соблазнительного, сколь и труднодостижимого). Опыт каждого языка — неизбежно локален, и переводчики нащупывают переходы от одной локальности к другой. Если угодно, они доделывают ту работу, которую не доделал (подозреваю, намеренно) сам Создатель мира, оставив каждого из нас наедине со своими языками. Они заращивают пустоты между разрозненными опытами. Можно было бы поддаться соблазну и сказать, что они делают невозможное (такое, на самом деле, многократно говорилось, притом самими переводчиками, среди которых, в частности, — и Иосиф Бродский) — если бы сам автор книги не принадлежал так убедительно к тем, кто героически и плодотворно сражается с самой идеей непереводимости.