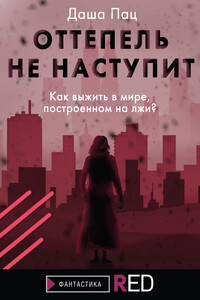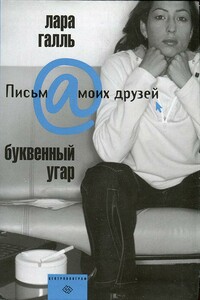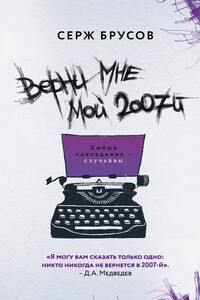Новый мир, 2013 № 03 | страница 206
Вопрос не в том, что именно сказала Ахматова сыну в 1961 году, после чего они больше не встречались 5 лет, до самой ее смерти, действительно ли она была против защиты сыном докторской диссертации и требовала, чтобы он продолжал делать стихотворные переводы, отрабатывая деньги, затраченные ею на лагерные посылки, или Лев Гумилев сочинил эту обидную для Ахматовой версию, и причина ссоры была иная.
Вопрос не в том, права ли Ахматова, когда она в бешенстве кричала сыну: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я». По-своему права, если учесть ее сосредоточенность на своей славе, а публикацию в «Огоньке» стихотворения, восхваляющего Сталина, — как жертву и унижение. «Бросалась в ноги палачу», — как напишет сама Ахматова. (Сын же этот поступок жертвой не считал, да и вообще не оценил.)
Эгоцентризм гения (как пишет Беляков) был свойствен каждому из них. Но цель повествования Белякова — не обвинение Ахматовой. Цель — показать своего героя со всех сторон, чтобы сделать понятными обстоятельства, в которых он формировался, чтобы прояснить его характер. Гумилев как ученый сделал себя сам. Он шел к науке упорно, вопреки обстоятельствам, почти лишенный семейной поддержки семьи, такой естественной в студенческие годы.
Фамилия Гумилев стояла на нем страшным клеймом. Некоторая доза легкой иронии вылилась на Белякова за название книги. Но дело не в том, что Лев Николаевич боготворил отца и был на него похож не только внешне, но и по складу характера, по бесстрашию, по страсти к путешествиям. Сохранить фамилию Гумилев в советских условиях 20 — 30-х годов, когда дворянское происхождение считалось криминалом и закрывало путь в институт, было решением мужественным и гордым. Недаром сестра Николая Гумилева, Александра Степановна Сверчкова, на скромную зарплату которой и жила в Бежецке вся семья, хотела усыновить Льва, чтобы дать ему свою фамилию: с такой фамилией легче было бы поступить в университет, она не дразнила бы ни студентов-комсомольцев, ни спецчасть. Следователь, допрашивавший Гумилева при первом аресте, сам посоветовал юноше сменить фамилию. Тогда это делалось просто. Гумилев не захотел отрекаться от отца и, скорее всего, заплатил за это лагерным сроком. В этом эпизоде, конечно, проявляется характер Гумилева-сына, та самая воля, твердость и способность действовать вопреки выгоде, которая является составляющей гумилевской легенды. Не на пустом месте она возникла. И здесь Беляков подтверждает легенду, хотя чаще всего следует прокламируемой цели «очистить биографию Гумилева от мифов и легенд». Правда, иногда стремление подвергнуть ревизии господствующую точку зрения, опирающуюся на воспоминания самого Гумилева, приводит к парадоксальным результатам.