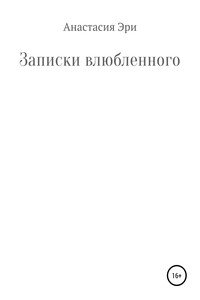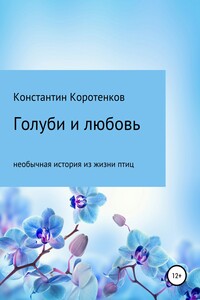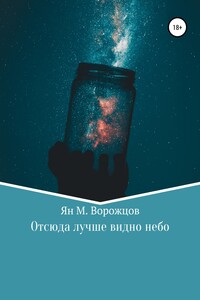Новый мир, 2013 № 03 | страница 163
25 февраля.
Ретроспектива Мунка в Пинакотеке. Хороший художник… Ранние трогательные картинки. Но уже с 80-х гг. — своя округло-эллипсоидная линия, своя экспрессия. Художник несравненно слабее, скажем, Серова, но вот что значит «в нужном месте и в нужный час»: создал несколько эмблематичных, а потом «раскрученных» вещей: и его знает мир, а Серова — полтора человека.
(Хотя не уважаю Серова: портрет Государя и тут же — для реабилитации в глазах общества — «Солдатушки». Впрочем, онивсетогда такие были.)
Между тем, как и наши авангардисты, под давлением социальных обстоятельств Мунк в 30-е годы делается благонамереннее, реалистичнее. Но как далеко-далеко ему, скажем, до Фалька (в его портретах). Прямо скажем, много российских живописцев сильнее Мунка, но, увы, остались они на периферии (те, кто не уехал на Запад). Исключение — Малевич. Но его гомерическая легендарная слава — для меня в чем-то секрет.
6 марта,суббота.
В Савойе, в Альпах (Val-Thorens, 2300 м).
Вчера поздно вечером на шоссе нахохленный, заурядный, прозябший, видимо, паренек ловит машину (а наш автобус неподалеку). Только подумал, что, конечно, никто его не возьмет, как белый лимузин затормозил и тотчас его увез. У нас в России вряд ли бы ему помогли (во всяком случае уж не владельцы такой кареты).
Неделя в Вал-Торансе — высокогорной лыжной базе — курорте. В чаше снежных скал и хребтов, фосфоресцирующих при полном раскаленном диске луны, а днем — склоны и окрестности складчаты от снежных заносов.
Вчера с Наташей на перевале — сначала в непроницаемой влаге облака; потом все в одночасье открылось до горизонта: зубцы, пики, вершины, седловины, хребты — под пятном матового солнца. Заваленная чуть не по крышу снегомизбавысокогорного ресторана — шалмана, где, продрогшие, напились горячего глинтвейна (а я и местногожэнэпи).
Впервые в жизни пожил на такой высоте среди лыжников — обывателей (кроме французов — много голландцев, немцев, да и нашего брата — россиянина).
На перевалах всегда почему-то думаешь — сравниваешь: что «лучше» — вот эти перед тобой снежные шапки, и пики, и сахарные волны до горизонта; или — океан, море, шторма, приливы. Я всегда — в пользу второго: горы как ни прекрасны — статичны, бесшумны, а там — прибой, накаты, движение… Но объединяет их — темное, загадочное фосфоресцирование в лунную ночь.
Перед отъездом в Париж на Поварской в ИМЛИ среди прочего купил (какое старорежимно-хорошее развернутое у этой книги название): «Князь Владимир Федорович Одоевский. Переписка с великой княгиней Марией Павловной, великой герцогиней Саксен-Веймер-Эйзенак». ИМЛИ РАН, Москва, 2006. Тираж-то 800 экземпляров, а вот и по сегодня в продаже. (Позорные времена.) Предисловие — считай, самостоятельный труд — Кати Дмитриевой-Майминой, давней моей приятельницы, дочери псковского пушкиниста Маймина. Превосходный, скрупулезный, вдумчивый труд! И ее же примечания — такого же уровня. Если б не всегда раздражающий меня штамп «Вместо заключения» (место заключения) — можно б было считать Катину работу просто безукоризненной. Впрочем, это придирка. В книге замечательное приложение: полемическое возражение князя на дежурное французское (европейское!) русофобское щелкоперство: «Речь в защиту abonne russe» (1857), актуально, видимо, на все времена. Одоевский рассказывает, среди прочего, как Полевой — «историк, филолог, журналист, который 35 лет назад основал первый ежемесячный журнал в России („Телеграф”), имевший огромный успех — пропустил в разделе „Смесь” своего журнала ошибку» во французском слове. «Этот проступок ему никогда не простили. Он преследовал г. Полевого до конца его дней, исполненных трудов и пользы для общества… И наоборот, приведите мне хотя бы одно русское имя, которое бы на Западе не было искажено тысячью и одним способом». И т. п.