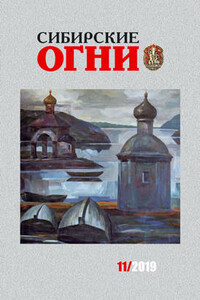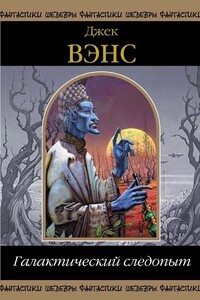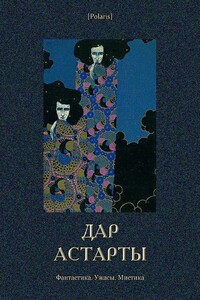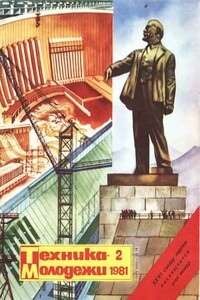Тишина | страница 2
Но - тревожен воздух: в нем как бы живые отзвуки той жизни, что смело, широко вошла в сталь, гранит, что захлестнула океанским размахом незыблемое, подарила новый день, новые книги, преобразилась вторым лицом оскаленным, но неизбежным.
И до Кормы надвинулся чудовищный хаос двух потрясений. И в этих двух зажглись леса, усадьбы охотников на рябчика, что под липами ложились некогда, в приятном спокойствии.
Зажглись таинственные белорусские сады, вытаптывались заповедные тропы, величественные аллеи - до боли близкие, по крови родные, жаркие.
Хаос, пришедший оттуда лишь отзвуком, опрокинул безмолвие здесь, вырвал из его цепких объятий сельчан. Они сотнеголовым Адамом учуяли звериную радость бытия, влекущий захлест вихря: единым воплем обрушились на барские дворы, крошили все, забыв о добром солнце, которому поклонялись, выходя в поле с ядреным скотом, о сумеречном плеске ленивой реки, поящей, как добрая мать, скот и землю, забыв о зыбучих мхах болотных, где красным горохом рассыпалась клюква...
И в глухие багровые ночи (багровые от тлевших развалин, от съедаемых пламенем скирдов) весело прыгали языки зажженных лучин по мужичьим спинам, склонившимся над добром, схваченным без разбора в страшный час.
... Ураган прошел. Умер взлет огненной волны. Стерся в синей глубине последний столб дыма - стало тихо.
По утрам люди сходились, нечесаные, недоспавшие (не спавшие вовсе), сами на себя не похожие, словно схимники, сдавленные жизнью, переборовшие в себе борьбу двух начал - природы и духа. В глазах отражалась пустота, недосказанная жалоба и тоска. (Так тоскует добрый, старый пес, выгнанный в непогоду любимым хозяином.)
Расходились по хатам к заполдню, слепой походкой, беззвучно.
Порой, как снегирь, пущенный из клетки, вылетал вздох из чьей-нибудь груди, и босая черная нога, развихлявшийся лапоть, или сапог, сморщенный старичком, растирали тот вздох в глубоком песке.
Снова пустели проулки, кривые, кажущиеся нескончаемыми в границах, люди укрывались в садах плащами зелени. Только куцые стада коров глупо-равнодушных ко всему, шли, запыляясь к пастбищам, взревывая пароходными гудками, останавливались на перекрестках, взревывали снова и снова двигались туда, к шепчущему плеску ленивой реки, поящей, как добрая мать, скот и землю.
Только колокол Спаса, охрипший от набатов, звал в воскресные дни, и голос его дробился множеством звуков, звенящих разно, разлетавшихся стрекозами в проулки, улочки, в притаившиеся хаты с притаившимися людьми, сочился в дверные неприкрытые щели, просеивался сквозь соломенные настилы крыш, словно мука сквозь сито, тысячью невидимых, жужжащих стрел впивался в уши, ширился в черепе, поднимаясь к мозгу и там - застывал, как расплавленные гвозди: что же дальше?.. Что же дальше?..