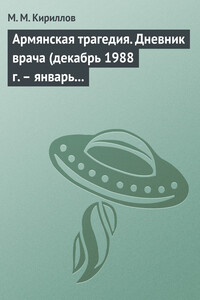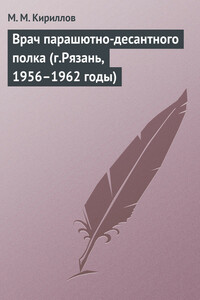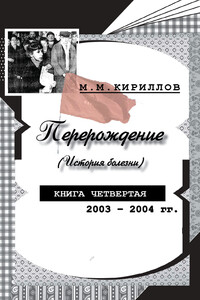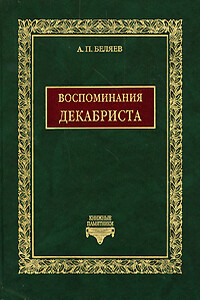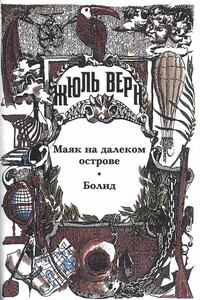Мои больные | страница 114
Проф. Файнштейн привел десяток успешных примеров такой тактики. Без асептического блока она была бы невозможна.
В Институте сохранялись образцы костного мозга и космонавтов, и ученых в расчете на их использование при возникновении лучевой болезни.
Нам было рассказано о дальнейших планах Института по оборудованию целого асептического комплекса уже из 12 палат. Говорилось и о создании большей мощности воздухообмена в таких палатах, что приводило к достижению надежной асептики в зоне обитания больного. Микробы просто смывало бы воздухом, и посетителям можно было бы обходиться без специальной защитной одежды. Так, можно было запросто забежать к больному в болонье и поделиться впечатлениями о последнем футбольном матче…
Редко удается видеть больного лейкозом, у которого бы уже не было старого костного мозга, но еще не было нового, здорового.
Госпиталь в Ленинакане
В начале января 1989-го года мне довелось съездить в госпиталь в г. Ленинакане. Прошел почти месяц после трагического землетрясения. Здешние врачи рассказывали, как это было. Я привел эти наблюдения в своей книге «Армянская трагедия. Записки врача» (Саратов, 1996). Но они сохранились и в памяти.
Современное здание госпиталя было разрушено, при этом погибли 8 больных и три медсестры: все были раздавлены лестничными пролетами. Сохранилось лишь старое здание постройки 1834-го года, сделанное из армянского туфа. Подпрыгнуло, но устояло.
Каждый из медперсонала как-то пострадал. У кого-то семья погибла полностью, у кого-то чудом осталась целой, но завалило жилье, и некуда было деться. Сотрудники госпиталя бросились в город. Спасая своих, спасали чужих. Начальник медицинского депо потерял дочь и обезумел, его долго не могли найти, иначе раньше можно было бы получить палатки, имущество и развернуть работу.
Когда начали поступать раненые, оперировать их пришлось в барачной лагерной палатке. Хирург Юсибов, кстати, наш саратовский выпускник, уже у операционного стола обнаружил, что работает в тапочках. Семьи, оставшиеся без крова, разместили в палатках. Дети, холод, плач и стоны. Раздавали солдатскую пищу даже самым маленьким.
Условия работы оказались особенно тяжелыми во второй половине 7 декабря и в ночь на восьмое, так как не было освещения, недоставало растворов и стерильного материала. Сказывалось испытанное потрясение. Ночью работа шла при свете костров и автомобильных фар, а в операционной – при свечах. Диагностика повреждений и тем более состояния внутренних органов была затруднена (холод, невозможность раздеть раненых, скученность, нехватка персонала). Распознавание шока основывалось на констатации частого нитевидного пульса, холодного липкого пота и общей заторможенности раненого («засунул руку под фуфайку – холодный пот и скрип, значит, шок и подкожная эмфизема, что осложняет торакальную травму)».