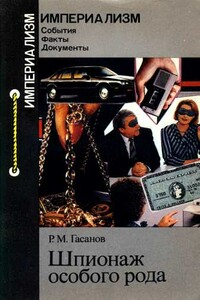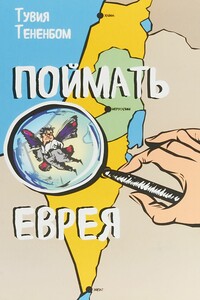Эксперт, 2013 № 44 | страница 56
М.Р.: То есть, тех, кто мог прочесть?
О.Г.: И кто интересовался и имел для этого больше свободного времени. Александр Пятигорский еще до отъезда за рубеж шутил, что у нас все «и. о.», исполняют чьи-то обязанности: я, говорил, — и. о. философа, Аверинцев — и. о. богослова, а Щедровицкий — и. о. методолога. И тем не менее их читали, ломились на их лекции и семинары, потому что живому слову, чувству больше доверяешь и через это нечто происходит.
Однако сразу с началом возвращения церкви в публичную жизнь возник еще один вопрос, не для всех удобный, — о православной культуре. Не о русской как общероссийской, имперской, а о русско-православной.
Вы не представляете, какое негодование вызвало обсуждение роли «одесской школы» в литературе или невинной публикации Дмитрия Лихачева «Заметки о русском» в «Новом мире».
М.Р.: Это в шестидесятые?
О.Г.: Это в восьмидесятые. Помнится, одна милая дама-театровед отрезала: «Он с ума сошел!» Потому, видимо, что о русском пишет. Ну а когда был обнародован вопрос о расстреле царской семьи, ропот сменился воплями возмущения, что на фоне миллионов замученных это чуть ли не бессовестно! Нынешняя страстная привычка к «омерзению», «нерукопожатности» не отсюда ли выросла?
Но, тем не менее, к вопросу о правомочности этого концепта литургического благочестия: когда через многие знания, умение, практику, чтение наконец доходит — это тоже происходит по-разному. Михаил Гаспаров это делал как переводчик и интерпретатор: прочь всякий мистицизм, мифологию, мифологизацию и уж тем более церковность. А есть, например, такие сообщества, общины, которые время от времени складываются где в виде семинаров, где — тренингов.
У нас в стране тренинговое дело очень хорошо различимо: тот же Хеллингер с его «семейными расстановщиками» от Петербурга до Иркутска — они друг друга знают, общаются, издают журналы, используют интернет, проводят свое обучалово. Еще в шестидесятые, в конце, все флаги в гости были к нам — все живые на тот момент лидеры психотерапевтических школ проехали через Москву и Новосибирск. И кто-то куда-то попадал, к чему-то примыкал, начинал потом сам двигаться и так далее. Поэтому возникали сообщества самого разного рода. Сейчас появился интернет, и это привело к усилению таких микросообществ.
М.Р.: А возможна, на ваш взгляд, православная Opus Dei?
О.Г.: Opus Dei — это организация. Несколько действующих образцов мы имели. Например, вокруг покойного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.