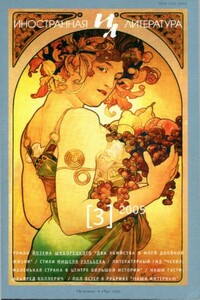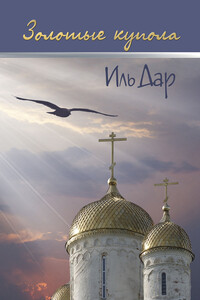Жемчужная тень | страница 17
Он и сам считал себя человеком «не от мира сего». Однажды он сказал, что если бы можно было представить современную литературу в виде картины, например, Брейгеля-старшего, на переднем плане были бы изображены люди, занятые всевозможными делами, — яркие, многоцветные, они ели бы, воровали, совокуплялись, смеялись, ухаживали друг за другом, испражнялись, закалывали друг друга ножами, торговали, лазили по деревьям. А вдалеке, по другую сторону обширной равнины, стоял бы он — пылинка на горизонте, вечно отдаляющаяся и неизменная, необходимый и таинственный компонент полотна, всегда остающийся на прежнем месте, неустранимый и незаменимый, далекая пылинка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь смутной фигурой, бредущей прочь.
Я не дура, и он об этом знал. Поначалу сомневался, однако ему хватило семи месяцев, чтобы признать этот Факт. Я бросила работу в правительственном учреждении Эдинбурга, — работу, на которой мне светила пенсия, — чтобы приехать сюда, в пустой дом среди холмов Пентленд-Хиллза, составить компанию дяде и заботиться о нем. Видимо, предлагая мне это, он рассчитывал найти еще одну Элейн. Он и представить себе не мог, сколько преимуществ перед Элейн окажется у меня. Неприглядная правда заключалась в том, что Элейн была его любовницей. «Моя гражданская жена», — называл ее дядя, объясняя, что в Шотландии по традиции считают женой женщину, с которой живут. Как будто я не знала весь этот фольклор XIX века и давно забытые обычаи. В наше время мало трижды повторить «беру тебя в жены», чтобы женщина считалась твоей женой. Конечно, дядя был талант и личность, этого у него не отнимешь. Так или иначе, Элейн умерла, а через месяц сюда прибыла я. За месяц я успела превратить в порядок большую часть домашнего хаоса. Дядя звал меня шотландской девушкой-пуританкой: в сорок один год приятно вновь слышать, как тебя называют «девушкой», а против причисления к шотландцам и пуританам я не возражала потому, что гордилась происхождением и считала себя патриоткой. Дядя произносил эти слова с особенной улыбкой, поэтому я не знала, какой смысл он вкладывает в них. Говорили, что ту же улыбку увидели у него на лице, когда нашли его мертвым с удочкой в руке.
«Назначаю мою племянницу Сюзан Кайл своей душеприказчицей, единственной исполнительницей моей воли во всем, что касается литературного наследия». Неудивительно, что такое решение он принял после того, как я прожила у него три месяца. Вероятно, впервые за всю дядину жизнь его бумаги были приведены в порядок. Я съездила в Эдинбург, закупи-та каталожные ящики и коробки, заполнила их горами бумаг и каждый снабдила этикеткой. В таких делах я знаю толк. Никто не смог бы уличить меня в том, что письмо от Энгуса Уилсона или Сола Бэлоу я храню в ящике с пометкой «У» или «Б», рядом с корреспонденцией каких-нибудь заурядных мисс Мэри Уайтлоу или миссис Джонатан Браун. Я понимала ценность первых из перечисленных документов, поэтому держала их в пухлых папках с письмами выдающихся людей. Поэтому вскоре дядя заявил: «Сюзан, теперь мне больше нечем заняться, кроме как умереть». Заявление показалось мне слишком напыщенным, о чем я и сказала ему. Но я видела, что он невольно восхищается моим здравомыслием. Он говорил: «Ты напоминаешь мне мою мать, которая даже саван приготовила себе заранее». Его мать Дженет Кайл приходилась мне бабушкой. И вправду, почему ей было не сесть и не сшить себе саван? В те времена многие изнывали от безделья, и если сейчас я поддерживала порядок в доме и следила за бумагами дяди сама, с помощью одной только миссис Доналдсон, приходившей по утрам трижды в неделю, то моей бабушке помогали четыре пары рук в доме и три — вне дома. После бабушкиной смерти остальные родственники сюда не наведывались, потому что с дядей жила Элейн.