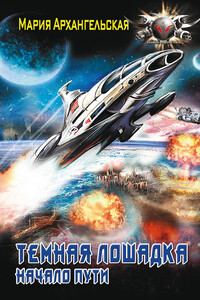Девушка и смерть | страница 111
Снова повисло молчание. Похоже, он, как и я, не знал, о чём говорить.
— Вы играете? — я кивнула на орган у одной из стен. Металлические трубы зрительно сливались с каменистыми потёками.
— Да. В последнее время я снова стал сочинять.
— А до этого?
— Вдохновения не было. Да и желания, признаться, тоже. Ты вернула мне и то, и другое, Анжела, и я искренне благодарен тебе за это. Надеюсь, ты простишь мне мой обман. Мне действительно казалось, что так будет лучше.
— Это вы хозяйничаете в Опере под именем Леонардо Файа?
— Я. И почему под именем? Меня действительно так зовут.
— Вы тёзка или…
— Или.
Я поверила ему сразу, и теперь молча смотрела на него, чувствуя, как меня охватывает острое чувство нереальности происходящего. Вот так стоять рядом с давно покойным композитором…
— Но ведь… Он же…
— Мёртв? А я и не говорю, что я жив — в обычном смысле этого слова.
— Но ведь вы не призрак, — пробормотала я.
— Нет, конечно. Я вполне материален, из плоти и… — он чуть запнулся, но всё же закончил, — крови. Да ты и сама могла в этом убедиться. Но вот так, во плоти, меня не видел почти никто.
— Даже Рената Ольдоини?
— Даже она. Это был чисто духовный союз. Впрочем, — добавил он, — иные мне и недоступны.
Я молчала, не зная, что сказать.
— Но я забываю об обязанностях хозяина, — Леонардо сделал приглашающий жест, указав на столик и стоящие рядом стулья. На столике красовалась ваза с фруктами, тарелки с закусками и пирожными и бутылка вина. — Присаживайся, угощайся.
— А вы? — спросила я, заметив, что на столике только один бокал.
— Я не нуждаюсь в пище.
Голод, которого я прежде не чувствовала, тут же снова напомнил о себе, и я не заставила просить себя дважды. Хозяин пристроился напротив, но тактично глядел в сторону, не портя мне аппетита чересчур пристальным вниманием. Так танцевала я с ним, или нет?
— Никогда не слышала, чтобы Леонардо Файа умел так танцевать.
— А я и не умел — при жизни. Научился позже. В том, чтобы не быть живым, есть свои преимущества — тело становиться куда послушнее. Не болит, не устаёт, не жалуется… Правда, и не заживает, так что всё же приходится соблюдать некоторую осторожность.
— Вы расскажете мне о себе?
— Не сейчас. Быть может, позже.
— Ну, тогда… Может быть, вы сыграете? Что-нибудь из сочинённого вами недавно.
Леонардо молча посмотрел на меня, потом поднялся и подошёл к органу. Сел на табурет, положил руки на клавиатуру, не снимая перчаток, на мгновение замер и заиграл.
После вступительных аккордов полилась мелодия, грустная и светлая одновременно. Временами простая, временами прихотливая, она захватывала и уводила куда-то прочь, так что я прекратила жевать, полностью обратившись в слух. Орган тихо жаловался на что-то, потом в его звучании появилось величие, превратившее кроткую жалобу в пронизывающую всё существо возвышенную скорбь. Густые звуки наплывали волной, наполняя пещеру, слишком маленькую, чтобы порождать эхо, так что ничего не мешало воспринимать эту музыку. Вот потянулся один бесконечный звук, менявший тембр и высоту, и на его фоне орган тихонько гудел, окрашивая звук новыми красками. Переход, и вновь протяжное одинокое пение, а потом снова полнокровная мелодия. Она начала потихоньку затухать и, наконец, окончательно сошла на нет.