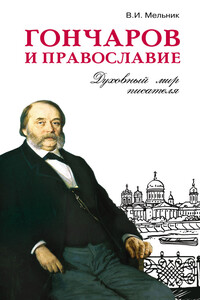Гончаров | страница 48
В отличие от таких весьма обеспеченных людей, как И. С. Тургенев или Л. Н. Толстой, он не мог позволить себе свободный художнический образ жизни, чего, конечно, страстно желал. В письме к своей доброй знакомой Софье Александровне Никитенко от 28 июля 1865 года, когда за спиной уставшего, уже маститого писателя осталась половина жизни, он с горечью выговаривал — судьбе ли, людям ли: «Мне житьё и писанье — не то, что Тургеневу, Островскому, людям свободным и обеспеченным: я похитил три месяца свободы, хотел выкроить из них всего недель шесть на работу — судьба помазала по губам, да и отказала…»[119]. Вот и приходилось тянуть суровую чиновничью лямку, а вместо романов писать служебные записки. Племянник писателя В. М. Кирмалов свидетельствует, что «в начале своей жизни в Петербурге Иван Александрович испытывал недостаток в средствах и как пример рассказывал, что, идя весной, в мае, в Летний сад на свидание с одной дамой, должен был надеть ватное пальто, ибо летнего не было». Пресловутый «средний оклад жалованья» составлял 514 рублей 60 копеек в год, то есть менее 43 рублей в месяц. На эти деньги нужно было покупать дрова на долгую петербургскую зиму, приобретать книги, прилично одеваться, питаться и пр. Позже он сам признается в том, что два десятка лет своей петербургской жизни он жил «с мучительными ежедневными помыслами о том, будут ли дрова, сапоги, окупится ли тёплая, заказанная у портного шинель в долг». О, как слышны здесь нотки гоголевской «Шинели» и жалобы кроткого Акакия Акакиевича!
В Симбирске и Москве Гончаров познавал жизнь России, а в Петербурге, в своём департаменте, — жизнь Европы. Провинция и Москва возрастили его в православии, но не избавили от вопросов как приложить традиционное православие к современной цивилизации, как соединить традиционные христианские добродетели с современными понятиями о труде, капиталах, финансовой системе, кредитах, техническом прогрессе и пр. Петербург, с его принципиальной близостью к европейской цивилизации, заставил искать неизведанное решение ещё более настойчиво, чем раньше. Вчитываясь в бумаги департамента внешней торговли, Гончаров уже не теоретически, а на практике обнаруживал, что современный строй вещей зиждется на капиталах, оборотах, предприимчивом труде. Начинал ощущать пульс того, что сегодня зовётся мировой экономикой. Насколько глубоко он проник в понимание сути буржуазной эпохи, можно судить по его глубоко новаторской книге «Фрегат «Паллада»». В этой книге многие страницы выдают в авторе человека, хорошо видящего те глубинные экономические пружины, которые двигают современным миром. Проводником прогресса для Гончарова того времени является англичанин, «не блистающий красотою, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках. Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии — на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах». Слово «менеджер» русский язык ещё не знал, и Гончаров его не употребляет, но он уже дал блестящий ёмкий портрет менеджера: менеджера от экономики, менеджера от политики, менеджера от финансового мира. Менеджеры двигают прогресс и заставляют быстрее бежать колесницу истории! Но ведь история эта по-прежнему христианская?! Как же соединить христианство и цивилизацию: этот вопрос всё настойчивее бился в голове молодого человека, погрузившегося в хитросплетения современной европейской жизни Петербурга, но прекрасно помнившего старый прадедовский «Летописец» и продолжавшего, конечно, тихо и незаметно по воскресным дням и церковным праздникам посещать какой-нибудь петербургский храм; какой именно — мы не знаем и, должно быть, не узнаем никогда — по величайшей скрытности Гончарова в духовной жизни, скрытности, унаследованной от предков-старообрядцев…