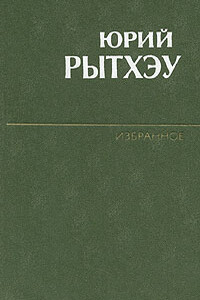В зеркале забвения | страница 63
Валентина, взяв в руки книгу, прослезилась. У Гэмо тоже защекотало в ноздрях, он обнял и поцеловал жену.
Стараниями Валентины первую книгу все же отметили торжественной трапезой. В гостях были Фаустов, Коравье и приехавший к кому-то в гости Аркадий Пеньковский. Слушая их торжественные и выспренние речи, Гэмо уже и сам начал склоняться к мысли, что создал нечто стоящее. Захмелевший Коравье сказал:
— Наш народ этой книгой выходит на тропу, ведущую к главному потоку движения человечества. И если даже мы исчезнем совершенно с лица земли, в недрах какой-нибудь библиотеки найдется старый пожелтевший экземпляр этой книги, и потомки удивятся: надо же, у этого крошечного народа, заброшенного на край земли, были даже свои писатели!
— Вы уж очень пессимистически смотрите на будущее, — заметил Пеньковский, который по мере опьянения становился серьезным и рассудительным. — Прежде всего об исчезновении народа: партия и наша советская власть делают все возможное, чтобы этого не случилось. Во-вторых, поймите, товарищи, это первая книга! Первая книга молодого писателя! За ней, я уверен, будут другие!
— Но народы, как и люди, исчезают, — Коравье не так-то легко было сбить с толку. — Возьмем древних египтян, древних греков и римлян. Что мы бы знали о них, если бы они не оставили нам письменных памятников?
— О, да! — подхватил Фаустов. — Гомер, Илиада, Одиссея…
Пришла Антонина. Она принесла букет цветов и бутылку вина.
Сердечно поздравив Гэмо, она принялась помогать хозяйке.
Коравье при ее появлении сначала засиял, но потом как-то сник и стал налегать на водку.
— Но вот есть какая опасность, — заговорил он вызывающе, призвав остатки трезвости, — есть опасность второсортности. Как нас считают второсортным народом, так, возможно, и книги Гэмо будут считаться таковыми…
— Но, позвольте! — попытался возразить Пеньковский. — В нашем советском обществе…
— Именно в нашем советском обществе! — перебил его Коравье. — Всегда, даже если и не будут говорить вслух, будут подразумевать: ну что вы хотите от него — он же чукча!
— Я категорически возражаю! — закричал Фаустов. — То, что я прочитал — это свежо, своеобразно по самому высшему разряду! Не слушай его, Юрий! А еще земляк называется! Радоваться надо, а не каркать.
— Я не каркаю, — несколько тише произнес Коравье, — я говорю правду. Ту самую правду, о которой мой земляк никогда не напишет, потому что она как бы не существует. Эта правда неудобна для идеологии…