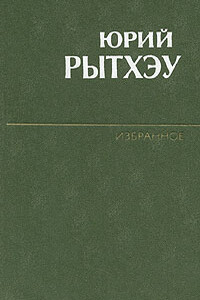В зеркале забвения | страница 51
— Скоро мы будем здесь жить!
В университетских коридорах было холодно, и в стылой аудитории с огромными окнами, выходящими на Неву, на Медный Всадник и золотой купол Исаакия, студенты кутались в теплую одежду, с тоской взирая на медленно разгорающийся день. Правда, света день ото дня становилось больше, но странно было: чем больше света, тем холоднее. Гэмо утешался тем, что в эту пору на его родине еще стоят крепчайшие морозы. Воспоминания о холоде еще больше остужали, и, дождавшись конца лекций, Гэмо, обычно вместе с Коравье, согревались водкой, влитой в пол-литровую кружку подогретого пива.
Гухуге уехал прошлым летом. Он впал в хандру, тосковал по родному Уназику и много пил. Врачи нашли у него туберкулез, и это страшно его обрадовало, потому что давало законное право прервать учебу и вернуться на родину. Получилось так, что Гэмо больше всего дружил с Коравье. С ним было интересно, он много знал, много читал, и, главное, хотя относился к литературным успехам своего земляка с долей скептицизма, однако снисходительно, чтобы не убить у друга стремления к творчеству.
— Иногда твои рассказы звучат как художественные иллюстрации к лозунгам, — говорил он, внимательно прочитав очередной рассказ. — Вот только не пойму: хорошо это или плохо?
Гэмо, однако, воспринимал такую оценку болезненно, хотя она противоречила сладким и восторженным статьям по поводу «появления нового таланта, убедительного доказательства верности ленинско-сталинской национальной политики», как писана газета «Правда». Редактор издательства «Молодая гвардия». Маргарита Далмагова, уверяла Гэмо, что он находится на вернейшем пути и именно так должен писать национальный чукотский писатель. Конечно, с одной стороны, ему было приятно все это и читать, и слышать, и он часто утешатся мыслью, что его герои, хотя нередко выглядят весьма приглаженными, все же как бы являются ориентирами для тех, кто идет вперед, к светлому будущему. Он сделал для себя парадоксальное открытие: такое писать много легче и проще, чем просто правду. А ведь, казалось бы, должно было быть наоборот: выдумывать труднее, чем отражать настоящее. Может быть, потому, что такая правда была неудобной для советской действительности? Не мог же он писать о судьбе своего деда Млеткына, расстрелянного как врага народа, как носителя чуждой идеологии? Невозможно даже представить на страницах белого листа долгие причитания бабушки Гивэвнэут, оплакивавшей своего мужа, безобразную сцену изъятия у старой шаманки Пээп знаков ее колдовского могущества. И совершенно неуместными были бы описания бесконечных пьянок русских работников исполкома и райкома партии большевиков, насиловавших девушек и даже школьниц старших классов. Каков был бы рассказ о русском судье Жигалеве, который, едва дождавшись, когда красавица Алиева, наполовину ингушка и наполовину эскимоска, закончила семилетку, тут же взял ее в жены на глазах изумленного Уэлена! Нет, то, что писал Гэмо — все было на самом деле, но все же… Была в тех рассказах какая-то червоточинка в самой интонации, нет, не ложь, а слишком уж бездумная восторженность. И не только это… Может быть, худшее — в бескомпромиссном отрицании всей прошлой жизни, отвержении всего, что было пережито и накоплено веками. В одном интервью Гэмо сказал: «Некоторые критики упрекают меня в том, что я пренебрегаю опытом нашего фольклора, традициями устного народного творчества. Требовать от меня, современного советского литератора, обогащенного опытом классической русской и советской литературы, такое, это все равно что требовать от современного астронома, чтобы он пользовался для исследования неба не современными высокоточными инструментами, а Галилеевой трубой». Иногда появлялось странное ощущение, что-то вроде стыда. Как стыдился он, когда напивались мать или отчим. Они несли всякий вздор, хвастались несуществующими достоинствами, особенно в приятии и познании новой жизни, старались говорить по-русски, пьяно коверкая слова, пытались петь русские песни, как бы полагая опьянение приобщением к новому образу жизни. В рассказах Гэмо никто не пил и не ругался, и он натужно старался вспоминать светлые черты жизни, оставшейся в Уэлене и служившей ему источником для его рассказов.