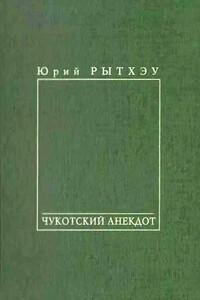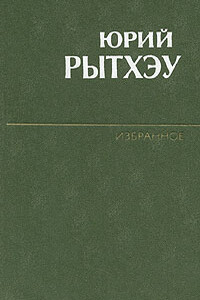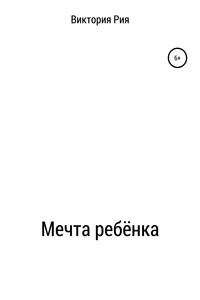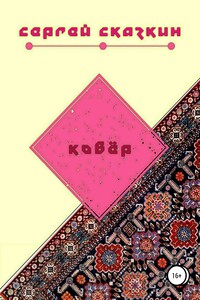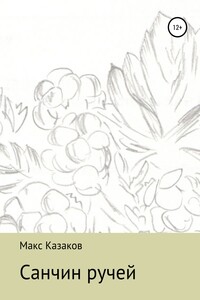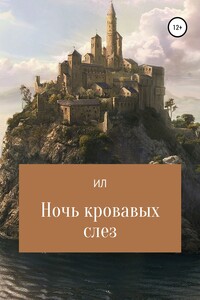В зеркале забвения | страница 141
— Здесь стояли две металлические мачты, возведенные строителями Транссибирской телеграфной линии еще до революции, — рассказывал жене Гэмо. — Под ними стояли бараки. Осенью сорок седьмого года мы эти бараки отремонтировали и поселились в них. Наш умывальник как замерз в середине сентября, так до конца мая и не оттаивал.
— Как же вы умывались?
— Снегом… Раз в неделю топили баню. Она располагалась вон там, по дороге в совхозный поселок. Бывало, войдешь в жаркий пар, а под ногами лед, не успевший растаять с последней помывки. Поэтому мылись мы в калошах, чтобы не отморозить ноги.
На берегу Анадырского лимана, в мутной воде которого плыли огромные косяки лосося, чтобы отложить в верховьях великой чукотской реки икру, Гэмо иногда в мыслях обращался к зеленым лесам, окружившим Колосово, деревне Тресковицы, часто видел и чувствовал себя на улице районного центра, за столом ответственного редактора районной газеты… Начинало ныть сердце, и он громко окликал Валентину, хотя она стояла рядом.
— Когда я учился в педучилище, главной нашей зимней едой была кета во всех возможных видах, — рассказывал Гэмо. — Первая — это соленая. Самые вкусные части — брюшки. Их можно есть вареными, а можно и сырыми, вымачивая в воде, чтобы не были сильно солеными. Потом разного рода вяленые рыбины-балыки, юкола…
— Не так уж плохо, — заметила Валентина.
— Но как надоедала эта рыба за зиму! Не то что есть, смотреть на нее было противно! Мы мечтали хотя бы о крохотном кусочке оленьего, нерпичьего, моржового, любого мяса!.. Но даже рыбы тогда было мало, и мы всегда ходили голодными…
— Про голод ты мне лучше не говори, — вздохнула Валентина.
Гэмо знал: жена не любила вспоминать блокадные годы в осажденном немцами Ленинграде, когда буквально на ее глазах от голода умерли мать, отец и брат…
Надежды на то, что поездки на родину дадут новый творческий импульс, не оправдались: последнее время Гэмо маялся, пытаясь нащупать новый путь в своем творчестве. Обращение к прошлому как бы исчерпало себя, а современный материал таил опасность. Действительность оказалась не столь безоблачной и радостной, как о том говорилось в пропагандистских книгах о народах Севера, прошедших славный путь прямо от первобытности в социализм.
В начале пятидесятых годов всех чукчей и эскимосов в прибрежных селах переселили в деревянные дома, не подумав как следует, какое жилище требуется сегодняшнему северянину, все еще живущему охотой на морского зверя, имеющего упряжку собак. В новом доме негде было разделать добычу, некуда поместить мерзнущих на студеном ветру собак.