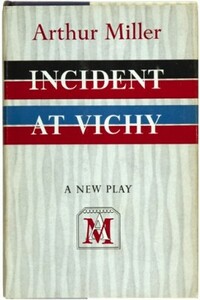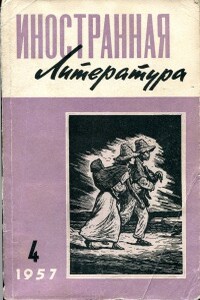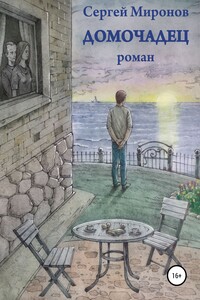Присутствие. Дурнушка. Ты мне больше не нужна | страница 95
Многие ее воспоминания о совместной жизни с Чарлзом включали в себя валяние в постели по утрам в воскресенье, когда она с чувством благодарности прислушивалась к приглушенному шуму Нью-Йорка за окном. «Я просто задумалась, просто так, ни о чем, — однажды прошептала она на ухо Чарлзу, — и вдруг подумала, что по крайней мере в течение целого года после того, как мы с Сэмом разошлись, мне было ужасно стыдно в этом признаться. И даже после того, как мы с тобой поженились, когда мне приходилось упоминать «о своем первом муже», у меня внутри что-то сжималось. Некое ощущение бесчестья или крушения надежд. Как же все-таки примитивно мыслило наше поколение!»
Сэм — в некоем неопределенном социально-классовом смысле — стоял ниже ее, но именно в этом отчасти заключалась его привлекательность в тридцатые годы, когда родиться в состоятельной семье считалось позором, гарантией несерьезности и бесполезности. Люди ее возраста — им тогда было по двадцать с небольшим — по два-три раза в неделю ходили на политические митинги по поводу всяких чрезвычайных событий в мире, проводившиеся на чердаках в центре города или в квартирах единомышленников на Уэст-Энд-авеню с целью сбора средств в пользу вновь создаваемого Национального профсоюза моряков или для приобретения санитарных машин для испанских республиканцев, их по-настоящему возмущал фашизм, который, по их представлениям, был в определенной мере системой, созданной миром их родителей, и насилием над умами людей; для молодых, для нее самой, надежда была только на социализм, и все родители, вместе взятые, могли лишь пугаться его подрывной привлекательности. Так что дома разговоров на политические темы всячески избегали. Да и в любом случае ее родители были безнадежно тупы: евреи, наделившие собственную собаку абсурдно-глупой кличкой, навязанной инспекторами иммиграционной службы, все еще пребывавшими в прошлом столетии, потому что ее собственная русская кличка, которую ей дал прадедушка, для этих ирландских идиотов оказалась непроизносимой.