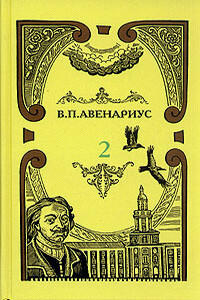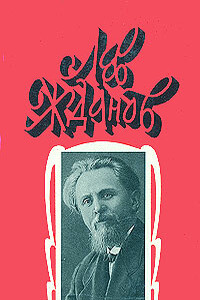Тайна поповского сына | страница 85
«Он умеет ждать», — мелькнуло в его голове.
Волынский не раз проклинал свою горячность; если бы он имел выдержку Бирона и его умение выжидать момент, история России была бы иная.
«Близится, близится час последней борьбы», — подумал он.
Под влиянием сознания совершенного великодушного поступка, на самом деле несколько растроганная, императрица была очень милостива к окружающим.
Она развеселилась.
Громко смеялась шуткам своих шутов.
Горбатая калмычка, вступившаяся за князя Голицына, с жалобным воем подползла к ее ногам.
— А, Буженинова, — со смехом произнесла государыня, — чего воешь?
— Князюшку забижают, — плаксивым голосом заговорила дура. — Дай ему орден! Дай ему орден! — твердила она, целуя подол платья императрицы.
— Ах ты, девка, девка, — ответила Анна, — что, чай, влюбилась в его сиятельство?
Окружающие громко захохотали.
Князь Голицын, поняв, что речь идет о нем, высоко взмахнул своими широкими рукавами и пронзительно закричал:
— Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!..
— Видишь, — продолжала Анна, — уж он в нетерпении. Чем не жених тебе? Не стар, красив, роду древнего. А орден — непременно… Герцог, — обратилась она к Бирону, — жалую шута нашего князя Голицына кавалером ордена святого Бенедикта.
Герцог наклонил голову.
Кузовин не верил своим ушам.
Шутит, что ли, государыня?
Да, конечно, шутит!
Не безродной калмычке, дуре, быть женой князя, чей род немало услуг оказал своей родине.
Но, взглянув на лицо Голицына, Кузовин понял, что эта шутка очень похожа на правду.
Лицо Голицына при словах императрицы болезненно исказилось и побледнело. Глаза расширились с выражением ужаса, на губах застыл шутовской возглас, еще мгновение, и по лицу забегали частые судороги, как у человека, всеми силами старающегося удержаться от слез.
Илья Петрович заметил, что лицо графа Апраксина приняло выражение злорадного удовольствия.
Это был злой шут.
— Радуйся, тестюшка! — крикнул он громко на весь зал. — Кланяйся и благодари. Пожалован орденом и невестой. Вот так невеста! Ты счастливее меня! — нагло закончил он.
Трудно было понять тон его слов.
Издевался ли он над своим тестем или хотел подчеркнуть то унижение, в котором они находились оба.
Из угла залы на них глядели потухшие глаза третьего шута, князя Волконского, и в них можно было бы прочесть: «Не все ли мне равно? Любимая жена моя в монастыре, по повелению всемилостивейшей государыни, я в шутах… Я никогда больше не увижу ее. Никогда! Никогда! Что мне до вас? Страдайте. Больше меня вы не будете страдать…»