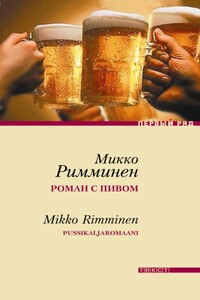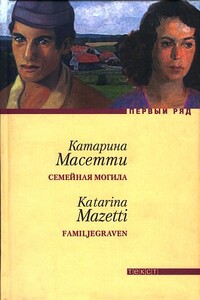История картины | страница 61
Тем не менее я оттягивала тот театрализованный финт, что приведет в движение всю машинерию, ознаменовав начало конкретного представления, имеющего установленные пределы, — одного из тех взаимозаменяемых вариантов, возможность которых я носила в себе. У меня была «депрессия», на том я и стояла. Эта депрессия служила мне единственным спасательным кругом, защищая свободу и оберегая молчание. Так я могла плавать в мире других самым осторожным образом, как бы в нейтральных водах.
Я возвратилась домой. Теперь там находилась юная гаитянка, которую мой муж нанял, чтобы она помогала мне в домашних делах и занималась детьми. Мысль о том, что отныне я избавлена от большей части забот, не доставила мне особой радости. Эта молодая женщина появилась слишком поздно. Ее приход в некотором смысле ставил весьма отчетливую финальную точку на дотоле еще не совсем упорядоченной странице. А налаженное подобным образом хозяйство позволяло мне просто перевернуть эту страницу, потому как, казалось мне, написанное там принадлежало прошлому, а на самом деле она — не более чем воспоминание, перенесенное в конец раздела, чтобы побыстрее его завершить.
Но когда я вернулась и, войдя в свою квартиру, увидела, что посреди комнаты стоит гаитянка и смотрит на меня, я почувствовала легкое недоумение. То была несколько сутулая молодая женщина с печальным взглядом, во всей ее фигуре сквозила какая-то пугливая неуверенность, словно она на каждом шагу могла оступиться, упасть. У меня мелькнуло импульсивное желание протянуть руки, поддержать. Сердце мое заколотилось. О влажные отблески ее глаз, темные берега ее кожи!
Я тотчас увидела, что она сурово осуждает меня. Во время моего отсутствия она, как только могла, помогала моему мужу, жалея его и восхищаясь его терпением. Бывший муж гаитянки бросил ее, остался ребенок, которого она с величайшим трудом растила. Она давала понять, что мне очень повезло. Я чувствовала, что она ждет от меня ответа. По-английски она не говорила, а я плохо понимала ее французский. Но не в словах дело, не они были нужны между нами, требовались какие-нибудь проявления привязанности, свидетельства пробуждающейся нежности, может быть, слезы. В ее некрасивом лице, в низком, жестком голосе сквозило что-то патетическое. Глядя на нее, я говорила себе, что она очень несчастна, но даже не знает об этом. Бедное неуклюжее тело, шатаемое незримыми течениями, способное объясняться лишь посредством звукоподражания или исковерканными словами, плоть, кое-как сработанная на конвейере, купленная в супермаркете, а затем расплачивавшаяся всем, что имела, за тень свободы… Склониться на миг, заглянуть за край ее уклончивого взгляда значило бы соскользнуть в пропасть без дна, утонуть, исчезнуть. Вздыхая, она все твердила, как мне повезло. Я не отвечала ей и перестала заглядывать в ее глаза. Единственное, что я могла сделать для нее — и меня это тоже устраивало, — предоставить ей любить и обихаживать детей. Уразумев это, она со мной больше не заговаривала. Мое равнодушие казалось ей предосудительным отречением от своего долга. А я выглядела слишком разумной, чтобы у нее могло пробудиться хотя бы малейшее сочувствие к моему недугу.