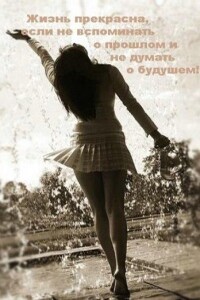Море, солнце и… | страница 6
А вот и наш бар.
— Привет, Петя.
— Привет, забулдыга.
— Не надо о былом…
Посетителей пока еще мало, вечер для них только начался, судя по трезвым лицам. Так что можно не спеша разложить шнуры, «примочку», подключиться, проверить звук, микрофон. Итак…
— Буэнос ночес, амиго. (Как с наличными, гринго?) Если вы не против, я начну.
Тихое вкрадчивое начало перебором на «чистом» звуке, без «примочки». Жуйте-жуйте, грингос. Все тридцать восемь удовольствий за ваши грязные песо. Я не для вас играю, вы пришли пожрать под музыку в дорогом баре. Я играю для тех, кто стоит за забором. Они шли куда-то или откуда-то, но остановились здесь. У них, может, и денег-то нет, но играю я для них.
Пришло время. Педаль.
Неистовое фламенко! Фламенко экстремистос!
Оле! Оле!
В воздухе запахло опилками и кровью. Бык не хочет умирать, а тореро — быть покалеченным.
Торро!
«Отвратителен переход от жизни к смерти». Но и привлекателен — для вас. Вы отвернетесь и очень оскорбитесь, если вам сказать, что некоторые части тела у вас отвердели или наоборот обмякли, в зависимости от пола. Вы возбуждены, ведь смерть дышит так близко, но не вам в лицо. Так платите за это!
Ф-фу! У меня перекур, пусть музыкальный центр поработает. После каждой такой песни руки дрожат и пот градом. «Зафузить» фламенко — хорошая мысль, но энергоемкая. Следующим номером пойдет Тито со своими тарантулами — номер попроще. Где моя вода?
— Ты хорошо играешь.
— Спасибо.
Девчонка… Та самая… Стоп…
— Почему ты играешь здесь? Им? — в ее голосе звучало столько детского максимализма, что он улыбнулся. Только дети верят во что-то решительно и бесповоротно, с годами это качество безвозвратно теряется.
— А где же мне играть? На улице?
— Они не слышат тебя.
— Почему?
— Не слышат и все.
— А ты слышишь?
— Я слышу. Пахнет, как бы… — она повела рукой в воздухе, стараясь подобрать слово, — как бы опилками и кровью.
— …?
— Ну, опилками посыпают арену для корриды. А кровь — быка.
— А может тореро?
— Нет, быка.
— Как много ты знаешь для своего возраста, — улыбка легкого превосходства.
— Пф! Мне, между прочим, уже шестнадцать. Почти, — высокомерная гримаска. — И я не знала. Ну, про опилки, кровь — я не знала, этим пахла твоя песня.
Он вдруг поймал себя на мысли, что она очень красива. Потрясающе красива. Дело даже не в правильности черт лица, молодости, хотя и в этом, конечно, тоже. Дело в соединении всего вокруг с ней, если так можно выразиться. Красные фонари цветомузыки, черная ночь, как черный бархат. Она стояла, как Кармен, перешагнувшая реку времени — длинное темное платье с открытыми плечами, черные глаза, черные волосы, черная ночь за спиной… Красное и черное — трагическое и прекрасное.