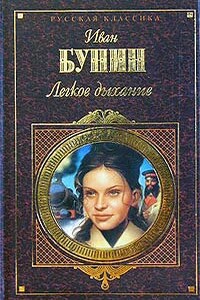Далеко | страница 26
— Вот погода, чёрт бы её взял! Понимаете, разыгралась такая метелища, что на вокзале все фонари позадуло.
Леонтьев зажёг свечку и надел брюки. Он ужасно обрадовался доктору.
— Ну здравствуйте, здравствуйте, только не кричите очень: знаете, Сорока ваш что-то заболел и, кажется, серьёзно.
— Ну уж и серьёзно. А вот мы сейчас его посмотрим, — Штернберг взял свечку и ушёл на кухню.
Леонтьев долго сидел в темноте и думал: «Как это хорошо, что он приехал, как это хорошо!»
В столовой на полу заиграл свет, потом послышались шаги, и вошёл доктор.
— Кто его знает, что такое; жар сильный, желудок вздут, и в груди хрип есть. Не воспаление ли лёгких? Дал ему английской соли. Завтра видно будет…
— А вот касторки не хочет…
— Ужасный болван, — сказал Штернберг и вздохнул.
— Ну доктор, рассказывайте о себе, я без вас тут чуть с ума не сошёл.
— Даже!.. Что ж рассказывать? Вот в Харбине так целых два барака самых настоящих сумасшедших, и уныние адское… Ну, затем я, кажется, попаду в действующую армию, но не раньше как через месяц, а через месяц всё может быть… Да-а. Ехали мы отвратительно. От «Пограничной» и по сие место «мало-мало», — как говорят китайцы, — не сутки. То паровоза нет, то воды нет, то вагон отцепился, и прибыли сюда вместо пяти часов только в девять. И это ещё слава Богу…
— Отчего же вы так опоздали домой, неужели от вокзала три часа ехали, — ведь не грязно? — спросил Леонтьев.
— Да нет. Нужно же было где-нибудь поесть. Ну я и закатился к Петру Михайловичу с чемоданами и со всеми бебехами… Знаете, кого там встретил? — Владимирского.
Штернберг помолчал и снова заговорил уже другим, как будто грустным голосом:
— Послушайте, голубчик, ну зачем вы откровенничаете, извините за выражение, со всякою… Вот этот господин сейчас мне с самым лёгким сердцем объявляет, будто вы своей жене разрешаете заводить любовников и что-то в этом роде…
Леонтьева бросило в жар, и свеча запрыгала у него перед глазами. Он заговорил не сразу.
— Вы правы, доктор… Здесь даже говорить нельзя ни о чём хорошем, святом, чтобы на это святое не плюнули. Но… Неужели же я мог ожидать от интеллигентного, университетского человека, что он свою личную антипатию доведёт до клеветы на дорогое мне существо. Ведь я же давал вам читать письма жены, из них вы видели, что она такое…
— Вот в этом-то и есть весь ужас… Повторяю, — нельзя здесь говорить… Спрашивать можно, неприличные анекдоты рассказывать можно, — всё это будет иметь успех, но трактовать вопрос об отношениях мужа и жены, — даже с самой философской точки зрения, — нельзя. Что вы здесь первый месяц, что до сих пор не уяснили себе местной точки зрения на женщину? Здесь женщину любят с двумя целями: или желая сделать её беременною, или просто воспользоваться ею, если она продажная. Женщину же как человека здесь и теперь, — тайно или явно — ненавидят, а в лучшем случае считают ненужной… — Ну нечего унывать… Это будет вперёд вам наукой. Обо всём хорошем язычок держите за зубами, а гадость выкладывайте… Утомился я страсть. Спокойной ночи, завтра ещё побеседуем.