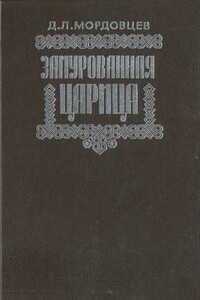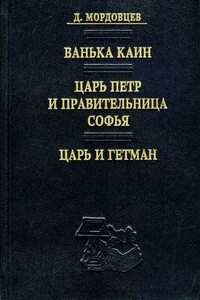За чьи грехи? | страница 57
«Все кончено», — ныло у него на сердце. И он с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то хриплый голос, вероятно, голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему, любимую песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел:
Ему досадно было, что его чистые думы о ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся этою пьяною песнею. А пьяная песня все терзала ему слух и душу…
Он готов был свернуть с дороги и отодрать этого шатуна своим бичем из гибкой татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой он думал и по которой томилась его пораненная душа… Ведь при ней бы он этого не делал — стыдно бы, не хорошо было…
А тот все тянул:
— Ишь нализался! — слышится чей-то другой голос. — Да еще под праздник.
— С радости, милый человек: кто празднику рад — с вечера пьян, — отвечал певец и снова гнусил:
— Это тебя-то, видно, пьяницу, жена подожжет лучиною, — опять послышался нравоучительный голос.
— Нет, шалишь! я сам ее за косы! я сам пропою! Он допел окончание песни:
Пение смолкло. А вот и монастырские стены, ворота. Молодой Ордин-Нащокин сошел с коня, погладил его лоснящуюся шею, потрепал за гриву и, привязав чумбуром к кольцу, вбитому в стену, сунул монету в руку старика-привратника.
— Пригляди за конем, дедушка, — сказал он, — я пойду ко всенощной.
— Добро, добро, батюшка-болярин, попригляжу, — отвечал старик.
Воин вошел в ограду. Ему казалось, что он входит в обширный могильный склеп, в котором похоронено все, что только он имел дорогого в жизни. Церковь между тем горела огнями, которые лились на двор сквозь узкие окна с железными решетками.
С глубочайшим благоговением и каким-то страхом Воин вступил в церковь.
Навстречу ему неслось из царских врат: «Слава святей, и единосущней и животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков!»