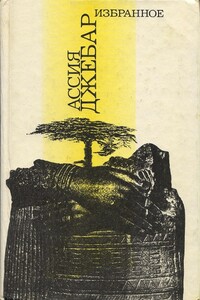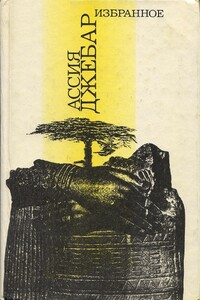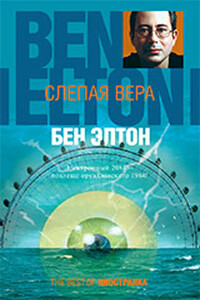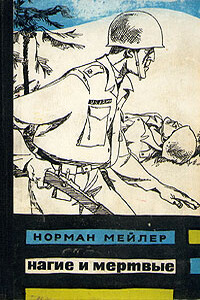Любовь и фантазия | страница 41
Описывать Африканскую войну, как некогда Цезарь, изысканность стиля которого смягчала апостериори жестокость военачальника, — значит ли это пытаться вновь заполнить опустевший театр?
Плененные женщины не могут быть ни зрительницами, ни действующими лицами спектакля псевдотриумфаторов. Мало того, они попросту ни на что не смотрят. Граф де Кастеллан, сам принимавший участие в таких конных набегах, а потом пописывавший для парижского издания «Ревю дю Монд», не без пренебрежения замечает: эти алжирки шествуют в кортежах победителей, выпачкав предварительно лица грязью и испражнениями. Изысканный хроникер ничего не преувеличивает и не обманывает ни себя, ни нас, но они не только защищаются таким способом от врага, ведь он, кроме всего прочего, еще и христианин, а следовательно — чужой, иноверец, поэтому с ним связано в их глазах все, что находится под запретом! И они спасаются, как могут, пряча свои лица под маской грязи, а если понадобилось бы, то и крови…
Даже порабощенный туземец не чувствует себя побежденным. Он просто не поднимает глаз, чтобы не видеть своего победителя. Он не «признает» его. Никак не называет. А что же это за победа, если у нее нет имени?
Слова ведь тоже служат своего рода прикрытием. При помощи слов воздвигается пьедестал в ожидании триумфа, который готовят себе любые империи, будь то Римская или какая иная.
Эту ежедневную корреспонденцию, отправляемую с бивуаков, вполне можно сравнить с любовной перепиской, ибо та, кому адресуют послания, становится всего лишь предлогом для того, чтобы заглянуть в свою собственную душу, обуреваемую сумятицей чувств… Война и любовь оставляют похожие следы, причиной тому — неуверенность перед лицом того, кто ускользает. А любая неуверенность порождает страх, и тогда, чтобы положить конец страху, начинают писать.
Письма этих позабытых всеми капитанов, которые уверяют, будто их волнуют проблемы снабжения армии или карьеры, и выражают порой свое личное миропонимание, так вот эти письма говорят, по сути, об алжирской земле, как о женщине, которую невозможно приручить. Покоренный Алжир это только фантастическое видение, ибо каждая битва все более отдаляет миг возможного угасания сопротивления.
Эти воины, молодцевато гарцующие на торжественном параде, не могут, несмотря на всю свою элегантность, смягчить боль несущихся им вслед пронзительных криков, моему воображению они рисуются скорбными возлюбленными моей алжирской земли. Страдание подвергшихся насилию безвестных людей, изливающееся таким образом, должно было бы взволновать меня в первую очередь; но почему-то, как это ни странно, меня неотступно преследует мысль о смятении самих убийц, о снедающей их тревоге.