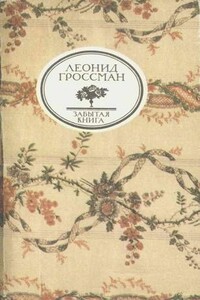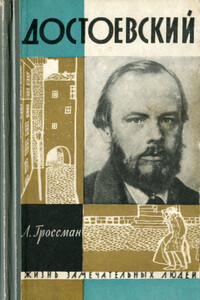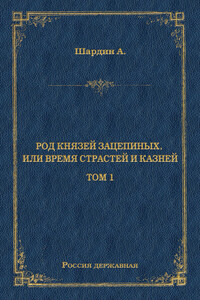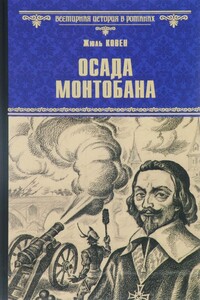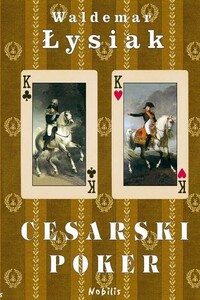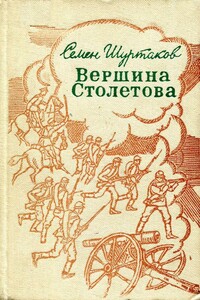Бархатный диктатор | страница 80
– Господа сенаторы и сословные представители! Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершившихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи.
Прокурор действительно необычайно бледен. Иссиня-черный бархатный воротник мундирного фрака выделяет бескровную белизну его тяжеловесной и широкой маски Чингисхана. Повелительный голос вибрирует лирическим волнением. С первых же слов обвинитель устанавливает характер предстоящей речи, он ищет «яркого и могучего слова», он хочет ударить по сердцам судей.
– Трудно, милостивые государи, быть юристом, слугою безличного и бесстрастного закона в такую роковую историческую минуту, когда и в себе самом и вокруг все содрогается от ужаса и негодования, когда при одном воспоминании о событии первого марта неудержимые слезы подступают к глазам и дрожат в голосе, когда все, что есть в стране верного своему долгу, громко вопиет об отмщении…
Словно стремясь сдержать обуревающее его волнение, прокурор переходит к изложению обстоятельств дела. Пафосом фактов он ошеломит сознание слушателей. Драматически и почти театрально рисует он картину взрывов на Екатерининском канале. Кое-где фантазирует, сгущает краски, восполняет воображением пробелы созидаемой легенды. Он даже сочиняет момент, когда «опечаленный повелитель русской земли» якобы «наклонился над истерзанным сыном народа».
Наступает момент для грозного и величественного жеста, тщательно разученного перед палисандровым трюмо прокурорского кабинета.
– …Когда миновали острые мгновения народного ужаса, первой мыслью России было: кто же виновник страшного дела? И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело ответить и суду и слушающим меня согражданам: вы хотите знать цареубийц? – вот они!
И размашистый жест трагического гнева словно мечет смертоносную молнию от прокурорского пульта к ложе подсудимых.
Властность движения обращает все взгляды в направлении, указанном прокурором. Весь огромный зал палаты, переполненный военными, чиновниками, судейскими, штатскими, женщинами, оборачивается, как один человек, и жадно смотрит за полированную ограду скамьи подсудимых: там, спокойно и молчаливо, вытянуты в ряд шесть голов – вихрастый юноша Рысаков, спокойный и благообразный Михайлов, остробородый Кибальчич, с головой молодого ученого, крохотная Геся Гельфман и мужественный красавец Желябов, напоминающий античного мудреца или русского витязя – не то Платон, не то Микула Селянинович; посреди – белокурая женщина с детским овалом лица, ясными глазами и властной линией у губ – Софья Перовская. Все шестеро уже охвачены неумолимым кольцом смерти. Несколько сот человек, уверенных в своей жизни и будущности (не для них же эшафот и казематы!), молча взирают на шестерых обреченных. Неумолимая черта отделяет страшным неравенством самодовольную и полноправную толпу судебного зала от маленькой горсточки безнадежных смертников, тесно сжавшихся за перилами узкого деревянного ящика. Торжественный трибунал чем-то напоминает бойню.